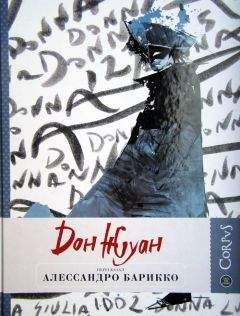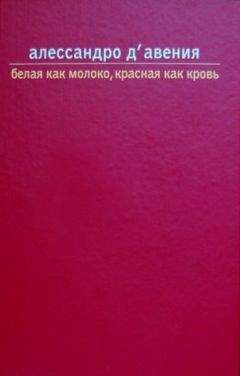В погоне за звуком - Морриконе Эннио
– Мне кажется, тебе удалось найти свое место в поп-культуре нашего времени. Ты добился успеха, одобрения и стал примером для нескольких поколений музыкантов. Не так давно ты признался, что хочешь запомниться «композитором». Поэтому сейчас, если позволишь, я задам тебе последний вопрос.
– Задавай.
– Когда ты осознал, что стал одним из величайших и влиятельнейших композиторов нашего времени?
– Я не думаю, что стал им. Чтобы такое утверждать, должны пройти годы или даже века. Сегодня об этом судить невозможно. Так что лучше избегать подобных суждений. Композитор может нравится слушателям, критике, может иметь отклик у публики, и только. Если он постоянно общается со слушателем, тем лучше. (Улыбается.)
Одним из величайших, говоришь? Очень сложно ответить на твой вопрос. Кто тебе это сказал?
– Я тебя провоцирую…Играю на твоем тщеславии…
– Эх. Я так и понял (Улыбается.)
Обед окончен, мы направляемся к дому Эннио.
Наше время истекло, а я продолжаю думать о тех возможностях, которые дарят нам разные музыкальные языки, о той вере в музыку, которую сохранил Морриконе. Я думаю и о своем пути, о своих отношениях с миром, и о судьбе наших разговоров. Хочется надеяться, что кому-то они будут полезны и интересны.
Когда мы входим в дом, Эннио говорит, что ему пора в оперный театр, и предлагает подвести меня до вокзала. Я, конечно, соглашаюсь. Любопытно посмотреть на него за рулем. Я жду, пока он подымется за партитурой, потом мы садимся в машину и трогаемся. По пути мы молчим, и я пользуюсь тишиной, чтобы полюбоваться Римом. В машине играет диск: голос Пьера Паоло Пазолини четко и ясно читает текст «Размышления вслух». Добравшись до места, Эннио паркует машину.
Мы выходим, и я провожаю Эннио до театра. У него в руках партитура, у меня – рюкзак за плечами. Перед театром мы молча прощаемся – кивком головы. Наши взгляды встречаются на мгновение и тут же ускользают, нас ждут новые дела и новые встречи. Так мы и расстаемся, молча глядя в будущее.
Приложение
Воспоминания о Морриконе
Чтобы обогатить свои знания о Морриконе и его творчестве и лучше подготовиться к нашим разговорам, я ощутил острую необходимость собрать о нем всю возможную информацию. С этой целью я изучил работы Серджо Мичели, Антонио Монды, Донателлы Карамиа, Франческо Де Мелиса, Габриеле Луччи, а также проштудировал интервью Джанни Мина, Фабио Фацио, Джиджи Марцулло, Джино Кастальдо, Энресто Ассанте, Марко Линчетто, просмотрел видео- и аудиозаписи, на которых Морриконе или люди, которые знали его и работали с ним, давали интервью различным органам печати. Затем возникла идея опубликовать некоторые из воспоминаний и отзывов об Эннио в качестве приложения к этой книге. Я начал работу с интервью своего учителя Бориса Порены, который, как и Морриконе, обучался у маэстро Петрасси. Затем я встретился с Серджо Мичели – первым музыкальным критиком, который занялся изучением творчества Эннио. Луис Бакалов, Карло Вердоне, Джулиано Монтальдо, Джузеппе Торнаторе и Бернардо Бертолуччи достаточно известны и не нуждаются в представлении.
Мне было интересно показать читателю Морриконе «со стороны». Ведь если большую часть книги мы смотрели на мир глазами самого Морриконе, то возникал вопрос – что будет, если мы посмотрим на него чужими глазами?
Можно сказать, что музыкальная Италия пятидесятых была поделена на два полюса: первый, представленный Луиджи Даллапиккола, склонялся к додекафонии и существовал в традициях Второй венской школы, второй же полюс знаменовал собой Петрасси. Его школа сближалась с традицией итальянского Возрождения. Петрасси считался в некотором роде предтечей противников додекафонии и германской традиции и наследником другого направления, возглавляемого прежде его учителем Казеллой, а затем Джаном Франческо Малипьеро. И несмотря на это, Петрасси всегда советовал ученикам, среди которых были и мы с Морриконе, оставаться открытыми для нового опыта. Это являлось одной из характерных и судьбоносных черт его преподательского подхода.
В произведениях 1952–1953 гг., и в особенности в Третьем концерте, Петрасси вдруг развернулся в сторону додекафоники с итальянским акцентом – в отличие от немцев, он не претендовал на то, чтобы заявить о себе как о единственном носителе чистого музыкального языка своего времени.
Мне представляется, что Эннио уловил эту нотку традиции Возрождения куда лучше меня. Я всегда склонялся к опыту Германии, видимо, потому что у меня немецкие корни. Так или иначе, мы с Эннио в этом смысле не соперничали и не спорили.
Морриконе поступил в класс Петрасси позже меня, и в консерватории мы особо не общались. Однако заканчивали мы в один год. Эннио представил очень «котируемую» с академической точки зрения работу. Затем в 1958 мы оба оказались в Дармштадте.
Принимая во внимание самые известные произведения Эннио, выходит, что Морриконе никогда не был настоящим дармштадтцем. И все же, как мне представляется, Дармштадт и додекафония Шенберга оказали влияние на Эннио и оставили след в его творчестве, пусть не в самых известных произведениях. Иногда этот след проблескивает и в его музыке для киноэкрана – это вечная жажда поиска. Мне вспоминается одно произведение Эннио. Он построил его на двенадцати сериях и скомбинировал их таким образом, что внутренняя структура произведения все время менялась, и в то же время они придавали ему целостность. В те годы, когда ценилась музыка ради музыки, а прикладные работы считались чем-то ниже достоинства хорошего композитора, Эннио чувствовал себя неуютно, словно он «продался» ради денег и у него нечисто на совести. Однажды в телефонном разговоре он и сам в этом признался. Мне кажется, он страдал своего рода «комплексом неполноценности» по отношению к тем, кто нес святое знамя высокой музыки.
Сегодня это звучит смешно, однако и мне, и многим другим с большим трудом удалось отказаться от собственных предрассудков. Выходит, мы сами были смешны. Само собой, невозможно было не заметить высочайший профессионализм ряда американских композиторов, которые работали в кинематографе. Многие использовали оркестры и создавали в фильме параллельные миры, воспроизводя нужную атмосферу. Это очень интересная и невероятная работа. Но Морриконе, похоже, чувствовал те тенденции, которые намечались в музыке, и смог встроить ее во внешний контекст и повлиять на него, покорив публику. Этот случай не такой уж и необычный для истории музыки: Бах смог покорить протестантов церкви Святого Фомы, Верди изменил театральные вкусы своего времени, пусть даже и порой отказываясь от свойственной ему музыкальности.
В отличие от Эннио я всегда интересовался лишь «чистой музыкой», музыкой в себе, и в конце концов желание следовать этому пуританскому пути привело меня к тому, что пришлось вообще отказаться от какой бы то ни было музыки вообще. Для Эннио все было не так именно потому, что его работы связаны с внешним миром, с обществом, с потребностями рынка. И при этом он остается музыкантом, композитором.
Думаю, что в теме «Морриконе и музыка» фундаментально то, с какой серьезностью и с каким профессионализмом он следовал школе Петрасси (если исходить из того, что Петрасси действительно создал собственную школу). Консерватория дала ему огромные познания в музыке, которые он затем использовал, приспособив в прикладной музыке.
По моему мнению, Морриконе отошел от тех композиторов, которые делают музыку к фильмам, основываясь лишь на том, что показывается на экране. Я имею в виду самые известные фильмы с его участием, которые и сам знаю лучше других, – фильмы Серджо Леоне.
Дело в том, что американские вестерны пытались воспроизвести атмосферу вестерна, каким знали его из истории, точнее, пытались создать образ, от которого бы пахло историей, используя для этого все возможные способы и подходя к делу с почти филологической кропотливостью. Морриконе же отстранился от подобного подхода и не стал идентифицироваться с тем, о чем повествуется в кадре, он создал второй план и сделал так, чтобы и зритель почувствовал своего рода отстранение от происходящего. Таким образом «спагетти-вестерны» Леоне уже не преклонялись перед Америкой, в них все время чувствуется ирония, они критично смотрят на первоисточник, и прежде всего это становится ясно благодаря музыке: сам тембр, слегка подрывая каноны, подсказывает нам эту мысль. В нем нет ни следа неореализма и итальянской киношной традиции времен конца сороковых – начала пятидесятых, и даже в те моменты, когда сам фильм претендует на реалистичность, музыка уходит от этого. Она отстраняет слушателя от того, что происходит на экране, и в этом смысле Морриконе кажется мне очень современным композитором. Мне кажется, что и в этом проявляется влияние школы Петрасси (под школой Петрасси я понимаю ту атмосферу, которая витала вокруг него и культивировалась учениками), а также влияние такой фигуры, как Стравинский.