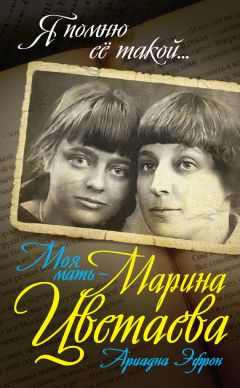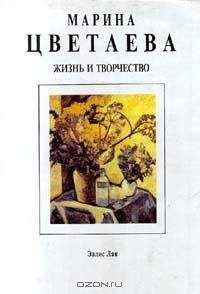Одноколыбельники - Цветаева Марина Ивановна
На других страницах «Тифа» эта память уходит в глубинный подтекст. Так происходит во взвихренном монологе героя об обновленном зрении, возникающем у многих людей в такие исторические периоды, когда время «выходит из берегов» – и видится «все по-новому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. До этого все цвета в мире тусклы, а здесь ни одного полутона – словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве…», но заканчивается этот монолог сокровенно важным для него «уточнением»: «Это и без революций с другими случается. А иным и революция не поможет. Дети, – не все правда, – и поэты рождаются такими…» Автор рассказа, безусловно, думает о Марине, когда пишет эти слова.
И еще – в неожиданно взволнованной беседе со случайным спутником герой говорит о том, что его любовь к жене в эти роковые минуты истории поднялась на другую, неведомую прежде высоту: «В вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти. Только теперь чувствую ее постоянно рядом, не рядом, внутри, в себе, вокруг, всюду» (Как дословно перекликаются эти строки с цветаевскими – «… в вечности жена, не на бумаге!» – которые всегда были живы в памяти Сергея Эфрона!)
В долгие годы разлуки Марина тоже чувствовала так, как сказано в рассказе Сергея. Это ощущается даже в такой ее прозе, где сюжет поневоле связан с совсем иным «руслом» ее жизни – в рассказе о ее попытке (единственной за всю жизнь!) поработать в официальном учреждении, откуда вскоре сбежала («Мои службы»). В саркастическом повествовании о поистине «кафкианском» абсурде, царящем в недавно созданном советском учреждении с «экзотическим» и трудно произносимым названием «Наркомнац», о лишенной малейшего здравого смысла работе его сотрудников, – казалось бы, нет места никакой лирике, но так неотступен ее постоянный «оборот» в ту далекую сторону, где воюет ее «вечный доброволец», что даже здесь случаются «лирические прорывы», причем в самых неожиданных местах… «Товарищ Эфрон!», – так обращаются к ней сослуживцы (в их первые годы она радостно носила фамилию Сергея и в некоторых письмах подписывалась – «Марина Эфрон»), и иронический рассказ о «ее службах» буквально пестрит этими согревающими душу обращениями… И тут неизбежно вспоминаются обычно не входящие в опубликованные варианты цветаевских стихов, начинающихся известными словами – «Я с вызовом ношу его кольцо!» – навсегда запомнившиеся Анастасии Цветаевой предшествующие строфы – «Мне говорят: ты странный человек …», и далее, в третьей строфе – «Всем хвастаюсь фамилией «Эфрон», / Записанной в древнейшей книге Божьей!»
Самая пронзительная сцена «Моих служб» – «Бедная тургеневская мещаночка! Эпическая сиротка русских сказок! Ни в ком, как в ней, я так не чувствую великого сиротства Москвы 1919 г. Даже в себе. (Так сказано о девушке, жених которой, далекий от политики, погиб, выполняя долг врача: вылечил раненого белого офицера и был арестован и расстрелян вместе с ним – Л.К.). Недавно заходила ко мне, стояла над моими развороченными сундуками: студенческий мундир, офицерский френч, сапоги, галифе, – погоны, погоны, погоны…
– Марина Ивановна, вы лучше закройте. Закройте и замок повесьте. Пыль набивается, летом моль съест… Может, еще вернется…
И, задумчиво разглаживая какой-то беспомощный рукав:
– Я бы так не могла. Совсем как человек живой… Я и сейчас плачу…». – Имя Сергея Эфрона здесь не названо: «Я даже имя его боюсь писать» (из записных книжек тех лет). И это не столько страх обыска, сколько – суеверный страх за его жизнь («не сглазить»…).
И еще. При разборе газетных вырезок, статьи из которых надо как-то «классифицировать» и подготовить короткие пересказы (не прообраз ли это будущих навязших в зубах «политинформаций» в советских учреждениях?!), начальник «товарищ Иванов» любопытно распределяет между ними «фронт работ»: «Долой белогвардейскую сволочь…» – Это Вам (…) «Все на красный фронт»… Мне… «Обращение Троцкого к войскам»… Мне… «Белоподкладочники и белогвардейцы»… Вам… «Приспешники Колчака»… Вам…» (Не совсем ясно, чем руководствуется и о чем догадывается этот странный начальник, впрочем, вполне доброжелательно относящийся к ней.) И дальше – не лишенный юмора и самоиронии, но тем не менее вполне «лирический» внутренний монолог: «Потопаю в белизне. Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак. – Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь!» – Ведь в это самое время Мариной Цветаевой создавался «Лебединый стан»!
Прославляя «ангелов и воинов» («Ты отца напоминаешь мне,/ Тоже ангела и воина …»), противостоящих наступающей бесчеловечности, Марина Цветаева была уверена, что пишет все это в тесной эмоциональной перекличке с воюющим Сергеем Эфроном. До какого-то момента это так и было, но с годами он многое переосмыслил и на многое пережитое в годы Гражданской войны стал смотреть по-другому…
«О добровольчестве», «О путях к России», «Церковные люди и современность» – это уже не живые воспоминания добровольца, а размышления его после отгоревших событий. Они и написаны совсем по-иному, чем очерки «Октябрь (1917 г.)», «Декабрь (1917 г.)» и рассказ «Тиф». Там была живая жизнь – быстрота, динамика, эмоциональная захваченность происходящими событиями, требующая мгновенного включения, – все это вовлекало читателя в бурный ход событий и читалось на одном дыхании. Здесь – эмоциональное последействие прошедшего, когда участник бурных событий ощущает, что он, говоря пушкинским слогом, «на берег выброшен грозою» – и имеет возможность «остановиться, оглянуться» – и не спеша подумать… Эти статьи требуют совсем иного чтения – медленного, с остановками. И – ответного, часто горького, часто полемического «соразмышления» человека первых десятилетий уже двадцать первого века – человека, которому уже открыто многое из того, над чем билась мысль автора, жившего в 20-е – 30-е годы века двадцатого…
В этих статьях тоже можно обнаружить немало сокровенных перекличек с цветаевским миром, особенно в самой личной, лирически-исповедальной – «Эмиграции». Ее тональность чем-то напоминает доверительные письма Сергея Эфрона или его прежнюю прозу: «… дышать нечем. И чем дальше, тем душнее, тем безвоздушнее. (…) каждый переезд на новое место, каждая перемена службы связана с наплывом новых людей, новых отношений, новых связей и с почти хирургическим изъятием вашего человеческого вчера…» – Как близок этой грустной мысли, особенно последним словам, остро запомнившийся Анастасии Цветаевой горький вздох Марины при их прощании: «Отъезд, как ни кинь, смерть…». – «…человеческие отношения построены на случайной механической сцепленности» – продолжает Сергей Эфрон. От такого формального, не утоляющего душу общения остро страдала и Марина Цветаева: «Париж мне душевно ничего не дал. (…) Чувство, что для тебя места нет <…> самая увлекательная, самая как будто – душевная беседа француза ни к чему не обязывает. Безответственно и беспоследственно. Так, как говорит со мной, говорит с любым, я только подставное лицо, до которого ему никакого дела нет. Французу дело до себя. Это у них называется искусством общения». (из письма А. Тесковой, 1932)
Поразительно, до какой степени «точь-в-точь это» писал в своей статье на несколько лет раньше Сергей Эфрон! – «Эта безвоздушность переносится и на человеческие отношения. Никогда раньше встречи с людьми не были столь многочисленны: в России десятки – здесь сотни знакомых. Но следы от тех бывших встреч насколько осязательнее, насколько длиннее, насколько значительнее здешних зарубежных. Как в поезде, перезнакомившись со всеми сопутчиками, забываешь их, пересев на узловой станции в другой (…). Но в чем же дело? Куда исчез весь воздух? Или причиной всему тоска по Родине? Она – душит нас, закрывает глаза и уши, иссушает сердца? <…> жизнь побеждена десятками идеологий. (…) Все кровавое и кровное, пережитое и переживаемое каждым из нас, перерабатывается в бескровную и некровную ходячую политическую формулу…». – Последняя фраза о кровно пережитом и о «перерабатывании» живого в неживое тоже очень близка Марине Цветаевой и по сути, и по форме выражения. Но это ни на минуту не приводило ее к идеализации противоположного лагеря, в котором она тоже видела «некровную ходячую политическую формулу». Сергей Эфрон не видел этого, не понимал лживости советских газет – он страстно поверил в прекрасную жизнь в советской России, где в его восприятии народ воодушевлен великими свершениями, живет бодрой активной жизнью и счастлив, рвался туда и спорил с Мариной, стремясь увлечь ее «новыми идеалами», не верил ничьим предостережениям, а ее трезвость считал «слепотой» и «жизнебоязнью».