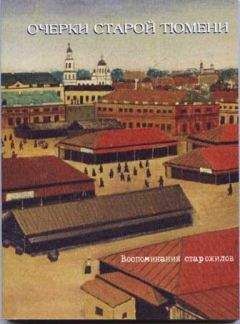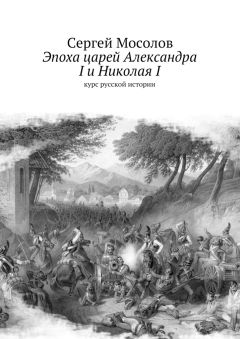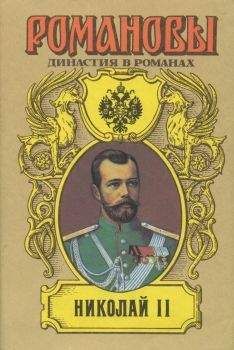Ю. Куликов - Сподвижники Чернышевского
Я. Новикова ВЛАДИМИР ОБРУЧЕВ
Не хочу стрелять в своих!
Обручев просидел у Чернышевского весь вечер. Разговор шел о «высоких предметах», то есть о крестьянском вопросе, который так волновал их обоих в начале 1859 года.
На другое утро Чернышевский снова погрузился в свою работу.
Неожиданно в кабинет вошла служанка и сказала:
— Пожалуйте в залу, там вас спрашивают Обручев.
«Что такое? — подумал Чернышевский. — Вот уже полгода мы очень дружны с капитаном Обручевым, но не до такой нежной неразлучности. Вчера не предполагали видеться раньше как недели через две. Значит, экстренное дело. А главное, что ж он остался в зале и прислал сказать о себе, а не вошел сам в кабинет? Странно!»
Чернышевский вышел в залу. Опершись рукой на стол, у дивана стоял незнакомый молодой человек в костюме безукоризненно строгой простоты. И сам он показался Чернышевскому человеком очень светского воспитания: так непринужденна была его поза, так легко он поклонился и сделал шаг к хозяину в ответ на его поклон.
Неожиданный посетитель был стройный человек среднего роста, сухощавый, довольно широкий в плечах, со светлыми, почти белыми, но очень курчавыми волосами, с очень белым, даже бледноватым, но здорового цвета лицом, черты которого были угловаты.
— Извините, — сказал Чернышевский, — служанка назвала мне фамилию моего приятеля господина Обручева— видимо, перепутала… Покорно прошу… — добавил Николай Гаврилович, внутренне смущаясь, что вышел в домашнем виде к незнакомому человеку.
— Служанка не ошиблась: моя фамилия действительно Обручев, — сказал посетитель, садясь и подавая письмо.
Чернышевский взглянул на адрес, разрывая конверт: рука Панаева. Развернул записку — так и есть: «Не найдется ли у нас в журнале работа для г. Обручева, который выходит в отставку, чтобы заняться литературою».
— Я посмотрю, поищу; может быть, найду что-нибудь для вас, но не рассчитывайте на это, скорее нет, — вынужден был сказать действительный редактор «Современника».
Обручев хотел встать и откланяться. Но Чернышевский остановил его вопросом:
— Вы не родственник Николаю Николаевичу Обручеву, которого я ожидал увидеть вместо вас?
Договаривая эти слова, он уже успел упрекнуть себя за этот вопрос: если б он был родственник, то, естественно, Николай Николаевич и рекомендовал бы его, а не явился бы он сам по себе. Но против ожидания посетитель ответил:
— Да, я ему родственник.
— И в хороших отношениях с ним?
— Да!
— Но ведь он знаком и с Панаевым, и с Некрасовым, и со всеми в «Современнике».
— Я знаю.
— Что за диво! Почему же вы не сказали ему, чтоб он познакомил вас?
— Потому что не хотел пользоваться рекомендацией.
— Его? Почему же?
— Не его в частности, а вообще, потому что не находил это удобным.
Чернышевский невольно почувствовал к нему некоторое уважение. Нежелание пользоваться рекомендацией хотя и было необычным, но честным. Новый Обручев заслуживает, чтобы посоветовать ему не делать глупости.
— Вы хотите выйти в отставку, чтобы заняться литературою. Занятие хорошее, если у вас есть беллетристический талант. Быть беллетристом можно и оставаясь на службе. А кроме повестей, ничто не требуется и ничто не выгодно. Собственно журнальная работа — черная работа, которая обременительнее службы; славы она вовсе не дает, денег дает мало. Да и здесь, как на службе, приходится ждать вакансий. Итак, ищите, испытывайте себя и ждите, оставаясь на службе.
— Я не могу этого сделать. Не дальше как через неделю я должен подать в отставку.
— Это жаль. Что ж, у вас вышли столкновения по службе?
— Нет. Но я должен выйти в отставку потому, что служба портит.
Чернышевский не выдержал и рассмеялся. «Служба портит! Это любопытно».
— Где же вы нашли такую службу? В откупах?
— Нет, — отвечал Обручев спокойно, улыбнувшись, — в военном министерстве.
Только теперь Чернышевский понял, откуда в этом штатском такая выправка.
— Интересно. Я знаком со многими служащими в этом министерстве. Признаюсь вам, не замечал ни на ком порчи от службы в нем. Одно из самых чистых министерств, помилуйте.
— Я не говорил, что портит служба именно в этом или каком-нибудь другом министерстве, я говорил, что портит служба вообще. Я хочу остаться человеком свободным.
— Хорошо. Я рекомендую вам оставаться на службе вовсе не так долго — несколько месяцев, в течение которых вы еще не испортитесь, а избежите риска. Служите, пока найдете работу и испытаете себя на ней.
— Это было бы лучше, правда. Но есть особенная причина — я хочу уйти с военной службы из опасения, что придется сделаться убийцей, стрелять в своих, и притом в тех, кто будет стоять за добро против зла!
Обручев сам удивился, что так просто и легко сказал редактору самую сокровенную причину отставки.
Чернышевский, казалось, не слышал этих слов молодого Обручева, продолжал задавать вопросы и отговаривать бросать военную службу. Но если бы Обручев знал, как был поражен Чернышевский и тронут его горячей искренностью, ему бы стало легче. Чернышевскому было ясно, что служба противна убеждениям Обручева, кроме того, что может испортить его хорошим жалованьем и карьерою.
— Позвольте спросить, где вы кончили курс?
— В Николаевской академии Генерального штаба.
— В каком вы чине?
— Поручик гвардии.
— Ищите место на кафедре военной академии. Кафедра и вернее, и спокойнее, и почетнее журнальной работы. У вас остались связи с академией?
— С немногими из профессоров. — Он назвал двух-трех.
— Они руководят большинством совета. Я знаю, там есть вакантные места.
— Мне говорили. Но я не хочу деятельности», противной моим убеждениям.
— Даже и кафедра? Помилуйте!
Они разговорились. Чернышевский стал подробно разбирать каждый пункт предшествовавшего краткого объяснения, по каждой статье доказывал рассудительность своего мнения.
Владимир Александрович Обручев — так звали нового знакомого Чернышевского — слушал терпеливо, спокойно; возражал холодно и коротко; большей частью не оспаривал слов Чернышевского, а только говорил: «ваш взгляд таков: я не могу разделять его», «мой взгляд кажется вам неправилен; я остаюсь при мнении, что он верен».
Чернышевский был верен своей привычке шутить. Обручев принимал шутки с полнейшим равнодушием, с видом снисходительного одобрения, с мягкою, несколько меланхолической улыбкой, которая появилась у него, как только разговор оживился, и уж не сходила с лица его все время. В его глазах, маленьких, серых, светилось кроткое, задумчивое добродушие. С этим взглядом, с этой улыбкой лицо его стало привлекательно — живо, выразительно.