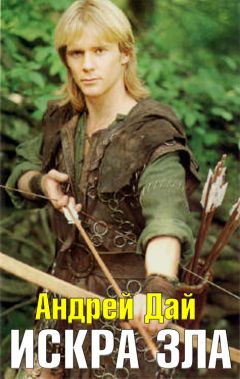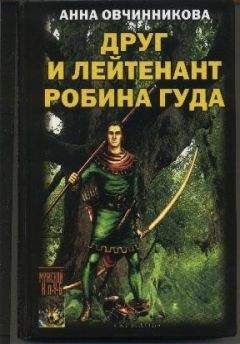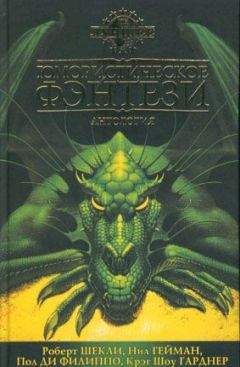Иван Киреевский - Том 3. Письма и дневники
5/17 января
Наконец я вчера опять получил от вас письмо! Вы пишете, что брат выезжает 2-го или 3-го, и так он уже теперь в дороге, и скоро, скоро я обойму его. Какое свиданье! О, если б эта минута могла перелететь к вам в Москву во всей полноте своей и облегчить тяжелую горечь разлуки! Ради Бога, будьте тверды, этого мало: будьте спокойны, не сжимайте жестокого чувства в глубине сердца, делите его, старайтесь развлечь его. Пусть каждая мысль о нас соединяется с мыслью, что вы должны любить, беречь, лелеять нас в себе, что ваше здоровье, ваше спокойствие — первое, основное условие нашего счастья! Верьте в счастье, одна эта вера может от вас отдалить убийственные мучения беспокойства; помните, что вы сердце той звезды, которая нам светит на горизонте темного, неродного неба, в которой мы, далеко разбросанные, соединимся всеми мыслями и чувствами. Первым утешением в разлуке с братом должна быть для вас мысль о необходимости такой разлуки; мысль, что кипящая деятельность, разнообразие новых впечатлений, сосредоточенное направление всех мыслей в другую сторону — лучшее для него лекарство. Бороться с мучениями своего чувства он хочет, и он одолеет его. Вы его знаете и, следовательно, в его силах сомневаться не можете, можете смело на него положиться и не мучить, не расстраивать себя напрасным беспокойством; вы подадите ему пример, как не должно предаваться чувству мучительному и бесполезному, как должно беречь себя для своих, для себя, для отечества. Вы беспокоитесь о том, что он поехал без человека, но это он сделал прекрасно, потому что за границей без человека обойтись совершенно можно, и человек, не знающий языка, со всей доброй волею, не только не облегчает и совершенно бесполезен, но напротив, еще удваивает хлопоты, потому что должно заботиться и о себе, и о нем, не говоря уже о совсем бесполезном удвоении расходов. Напрасно, однако, он человека не взял до границы, хотя и тут без человека обойтись можно очень хорошо, но человек мог бы его избавить от многих необходимых хлопот, связанных с собственным экипажем. Дорогу он также избрал самую лучшую: он сделает крюк, но зато увидит любопытнейшую часть Германии в Берлине, Дрездене и Мюнхене и, может быть, из Дрездена привезет ко мне в Мюнхен Рожалина. От Рожалина я получил письмо недавно, ему в Мюнхен очень хочется, а он теперь в положении довольно затруднительном: Киреева мать возвращается в Россию, а Кайсарова предлагает Рожалину либо возвратиться в Россию вместе с Киреевыми, либо остаться при ее дочери за 1000 рублей в год и, кроме обыкновенных уроков, еще посвящать все вечера ее забаве! «Остаться у Кайсаровых, — говорит он, — мне не хотелось бы по многим причинам: беспорядок страшный, от которого я терплю больше всех». И я надеюсь, что мне удастся его вырвать из когтей этих Кайсаровых. Стоит ли из 1000 рублей убить целый год понапрасну, а может быть, и больше, а кроме того еще отдаться на совершенный их произвол? Единственно удерживает его от переезда в Мюнхен то, что он боится недостатка денег для возврата, но можно ли за этим останавливаться! Возврат его из Мюнхена в Россию стоит не больше 700; 1000 даст ему каждый из журналистов за труды его с радостью. Но если ему и не будет довольно для этого времени, то неужели нам нельзя будет доставить его в Россию и неужели он лучше захочет понапрасну бросить год жизни? Это невозможно, и я почти уверен, что скоро увижу его здесь.
Я получил также недавно очень милое письмо от Шевырева из Рима: он уже узнал, вероятно от Рожалина или от самого брата, что брат едет в Париж, и очень этому радуется, зовет нас всех летом пешком к себе в гости. В Риме, как он говорит, ему живется: он ходит с «Винкельманом[320]» в кармане и весь живет в искусстве и древности, часто видится с Мицкевичем и жалуется только, что Рим «завешан с европейской стороны совиными крыльями монахов» и поэтому очень трудно иметь книги. И в Риме, говорит он, тоскуется по родине, чувствуешь недостаток в чем-то.
Вы говорите, что я все пишу об университете и Мюнхене, а мало о себе, но это потому, что о себе должно было бы повторять все то же: что я по-прежнему совершенно здоров, хожу в университет, каждую неделю раза два непременно бываю у Тютчева, читаю и копчу над латынью. Обыкновенный день проходит по большей части таким образом: встаю часов в 8, до 10 читаю, в 10 отправляюсь в университет, где остаюсь до 12, в 12 возвращаюсь домой, принимаюсь за своего Ливия и остаюсь над ним до часа, в час обедаю, от 2 до 3 опять принимаюсь за латынь, от 3 до 4 читаю, в 4 отправляюсь в университет слушать Окена и остаюсь до 5. В 5 либо отправляюсь читать журналы, либо читаю дома, а ввечеру либо отправляюсь в театр, что, впрочем, теперь бывает довольно редко, либо к Тютчеву, либо к Шеллингу или Окену (по пятницам и четвергам), либо остаюсь дома и опять читаю. Но что больше всего меня мучит, это медленность чтения, с которой я до сих пор не могу сладить, и, несмотря на то что я довольно много читаю, я прочитал очень немногое. Теперь я достал между прочим Лопе де Вегу из университетской библиотеки и думаю опять заниматься чаще испанством; я занимаюсь время от времени и языком итальянским, который мне дается очень легко. Главное мое чтение состоит в истории и философии; по философской части читаю Шеллинга, а по исторической на эту минуту Гебгарда, историю юго-западных славян, после которой думаю приняться за Гизо, которого мне обещал дать Тютчев. У Тютчева, как я уже писал к вам, я бываю непременно два раза в неделю и люблю его и все его семейство за их ум, образованность и необыкновенную доброту. Они принимают меня и со мною обходятся так, как добрее и внимательнее нельзя, но я часто прихожу в истинное отчаяние с хромотою своего французского языка, заиканием и особенно с совершенным неумением говорить, независимо от обоих первых качеств, или, лучше сказать, недостатком, и которое, как я больше и больше уверяюсь, едва ли не навсегда со мною останется.
Спешу отправить это письмо, чтобы не продлить еще времени и так уже слишком долгого. На этот раз я ничего не успел сказать о себе, но вслед за этим будет другое, самое подробное. Непременно буду писать и папеньке, отдам полный отчет в своем житье-бытье, в занятиях, в профессорах, в Мюнхене, во всем. Буду писать и к Маше, и ко всем. Покуда всех крепко обнимаю.
Ради Бога, не беспокойтесь обо мне: я здоров как нельзя быть здоровее и с самого отъезда не только ни разу не был болен, но даже и насморки были только два раза.
Милый папенька! Не сердитесь ради Бога! Скажите Максимовичу, что Тютчев обещает дать 7 пьес для альманаха. Я очень ему благодарен за присылку песен.
11. А. П. Елагиной
1/13 марта 1830 года