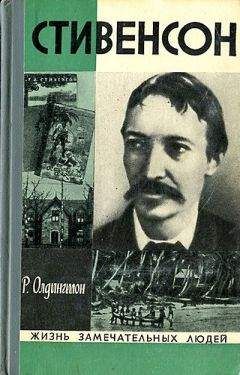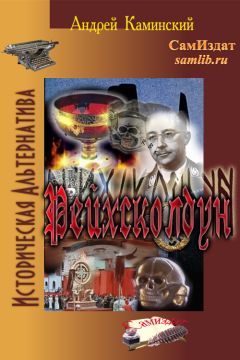Ричард Олдингтон - Стивенсон. Портрет бунтаря
Некогда, сводя счеты века с веком, Олдингтон в романе «Смерть героя» на первой же странице «уколол» Стивенсона. Вместе со всеми воззрениями «старого, доброго времени» ему после окопов первой мировой войны бунтарство Стивенсона казалось игрушечным. Однако время шло, сдвигая уходящие эпохи одна к другой все ближе, соединяя в представлении новых поколений прежние разрывы. За гранью второй мировой войны и сам Олдингтон сделался неким анахронизмом, очутившись со Стивенсоном по одну сторону перевала от века к веку. Тогда он и написал «Портрет бунтаря». «Если вы беретесь за биографию другого человека…».
За плечами у Олдингтона был уже весь его путь, и Стивенсон с годами «повзрослел». Тот Стивенсон, чья отвага и бодрость в глазах молодого Олдингтона выглядели мальчишеством, раскрылся как крупный и к тому же «современный» писатель.
Книга Олдингтона кажется сухопутной, моря в ней мало, а ведь редкое издание Стивенсона обходится без парусов и волн на обложке. Но, известно, на сцене — замок, лес и озеро, а стоит зайти за кулисы, там доски да веревки. И это так: все пираты, пиастры, «Пятнадцать человек на сундук мертвеца» и схватки на абордаж — только слова и бумага. Стивенсон нас морочит, откровенно морочит «приключениями».
— Приводи к ветру, друг сердечный!
Я изо всей силы налег на руль.
Многие ли понимают, что это в самом деле значит? А как выглядит румпель? И что такое шпигаты? «Мы оба потеряли равновесие и покатились, почти обнявшись, к шпигатам»… Надо бы спросить, но не успеваешь, потому что — «Мертвец в красном колпаке покатился туда же». И шпигаты остаются шпигатами, нам не до разъяснений. «Я с такой силой ударился головой о ногу боцмана, что у меня зубы лязгнули. Но, несмотря на ушиб, мне первому удалось вскочить. А на боцмана навалился мертвец».
Как-то Тургенев, разбирая попавшую к нему рукопись, встретил в ней описание утопленника: «и слеза сочится, и глаза выпучены, и пух нежный на губах». «Но, — указал Тургенев, — ведь если лицо утопленника одутловато, то тот, кто видит его, не заметит ни слезы, ни пуха».
Иными словами, ничего не вышло у автора, хоть описательных усилий и средств потрачено много.
А вот что делает Стивенсон: «Когда вода успокоилась, я увидел его. Он лежал скорчившись на чистом светлом песке в тени судна Две рыбки проплыли над телом. Иногда из-за колебания воды казалось, что он шевелится и пытается встать».
Стивенсон знал, что изобразить словами — это не значит изложить на бумаге как можно больше и как можно больше пустить в ход приемов. Никакие сведения и подробности, ни сравнения, ни эпитеты — ничто не поможет, если нам не интересно. А уж это зависит от автора, насколько сумеет он управлять вниманием читателя. Стивенсон был мастером литературной игры, тот Стивенсон, что еще мальчиком начертил фигурку, пришел и сказал: «Мама, тело я уже нарисовал. Хочешь, я теперь нарисую душу?»
Праведный гнев матери, возможно, избавил юного художника от выполнения непосильной задачи, однако Стивенсон-писатель в самом деле умел показать, умел, если ему было нужно, заставить видеть, слышать или чувствовать вещи невообразимые, и всего этого добивается он словами.
«С быстротой молнии я вцепился за ванты бизань-мачты, полез вверх и ни разу не перевел дыхания, пока не уселся на салинге», — читатель точно в таком же положении. Не переводя дыхания, он следит за Джимом, а потому не спрашивает, что за бизань-мачта и салинг. Таинственные предметы на месте — этого достаточно, чтобы мы, не понимая слова, все-таки увидели салинг, как бы увидели… Но Стивенсон и добивается «как бы», ведь книга все равно не жизнь. Он стремился создать искусство совершенно прозрачное, уж такое искусное искусство, чтобы, читая, мы не замечали, как же это все так «всамделишно» получается. А Олдингтону, который сам был до мозга костей литератором. интересней всего именно эта, закулисная, или, так сказать, ремесленная, сторона дела. Рассказать ему хотелось о том, что певец приключений, родоначальник нынешней романтики поэт океанских просторов, мечты, был окружен прежде всего морем чернил, по которому пускал он свои кораблики.
Со временем стало видно, что книги Стивенсона не игрушки, хотя они в самом деле легки, занимательны и доступны детям, но все же не игрушки, а скорее модели, с превеликим умением и тщанием сделанные модели «больших книг». Олдингтон, например, сравнивает «Остров сокровищ» и «Мадам Бовари». Ну что общего у Стивенсона с Флобером? А книги их похожи, вернее, цели авторов сходятся. Неважно, что Флобер предназначал свой роман взрослым, а Стивенсон — детям, что у Флобера провинциальная жизнь, а у Стивенсона — приключения, или что у Стивенсона «женщин нет», а у Флобера в них заключено главное. Добивались они все-таки одного: той самой идеальной естественности, когда мы не замечаем переплета, текста, а просто видим жизнь. «Такая книга, в которой тема не чувствовалась бы, была бы просто невидима, — так ставил задачу Флобер и добавлял: — Я убежден, что в этом будущее искусства». Действительно, следом за ним многие писатели — в том числе Стивенсон, который был ровесником флоберовской идеи, — стремились достичь в своих книгах полного впечатления «самой жизни», и, конечно, чтобы впечатление это возникло не по стихийному правдоподобию, а чтобы это был расчет, до предела мастеру подвластный.
Перекликается Стивенсон и с другим знаменитым писателем, единомышленником Флобера, столь же принципиально отличавшим якобы «правду», но бесформенную, от мастерского изображения жизни. Мы уже привели критическое мнение этого авторитета, разбор описания — и слеза, и пух, и глаза выпучены, а все равно ничего читателю не видно. Да, так рассуждал Тургенев, причем вслух, в кругу литераторов, группировавшихся возле Флобера. Мы не очень хорошо представляем себе такого Тургенева-теоретика, который крупнейшим европейским писателям служил образцом мастера, всесторонне осмыслившего законы своего ремесла. Один из участников тех бесед, этого литературного ареопага, и рассказал Стивенсону о Тургеневе. Стивенсон, таким образом, знал скорее о Тургеневе, чем тургеневские произведения, но то, что довелось ему услышать, наполнило его энтузиазмом.
«Вы рассказывали мне много интересного о Тургеневе, а я мысленно видел это изложенным на бумаге в форме изящного и чрезвычайно поучительного очерка», — писал Стивенсон своему другу.[160] И это на самом деле оказалось осуществлено. Генри Джеймс (два слова о нем у Олдингтона сказано), тот, кто благоговейно внимал Тургеневу и рассказывал о нем Стивенсону, написал очерк, и благодаря этому можем мы судить, почему разговоры о Тургеневе вызывали у Стивенсона интерес.