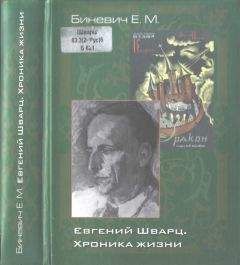Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
Весело и беспокойно было в гостинице «Москва», где получили мы номер высоко — кажется, на десятом этаже. Погода стояла ясная и теплая. В коридоре встречались все свои: вот проплывает Зарубина, все с той же прелестной улыбкой — уголки губ вверх, и все тот же нелепый, но упорный протест вызывает ее фигура. Так и хочется потребовать: похудейте же! А вот Гошева, тоненькая и молоденькая, с невозможно светлыми глазами, таинственная и поэтическая, страшно подойти, чтобы не омрачить впечатление. В «Тени» играет она едва ли не лучше всех. Я видел, как на репетициях она сердилась и страдала, как медленно овладевала ролью. Как обижалась на Акимова — между ними было, как понял я много позже, нечто еще более сложное, чем отношения между режиссером и актрисой, которая собирается уйти из театра. А ее к этому времени уже звал к себе Немирович — Данченко. Однажды после какого‑то замечания акимовского стояла она за колонной, сосредоточенная, вся занятая одной мыслью, таинственная и хрупкая, страшно разбить впечатление. Но я подошел. И она сказала: «Я думаю сейчас не о роли, а как справиться со змеями». И движением головы дала понять, что скрываются эти змеи в акимовском замечании, которого я и не понял. Проходит Тенин, квадратный, грубоватый и вместе с тем, где‑то в глубине это едва — едва просвечивает, на особый лад томный, что поражает женщин. Сухаревская, и складная и нескладная, словно ушедшая в себя, что объясняется, впрочем, ее глуховатостью. Ей тесно в самой себе, она похожа на беспокойную гимназистку, которая не дает покоя учителям вопросами и правдолюбием. Ее все время кусает и жалит собственный талант. Ей мало только играть, ей хочется самой ставить, сочинять пьесы. Энергия — неразумная, внерассудочная. Форму приобретает, только когда Сухаревская играет. Я написал, что видел в коридоре Зарубину, а теперь не могу вспомнить — не путаю ли. Не тогда ли родилась Танюша у нее и в «Тени» играла Сухаревская? Проходит Лецкий, полный сознания своей полноценности.
Заходит Суханов, таинственно улыбающийся. Он спорит против того, что нравится всем, и защищает то, что все ругают, от неудержимого желания занять самостоятельную позицию. Это натура мужественная, склонная к действию, но до крайности сложная. Шагу не сделает он прямо еще и потому, что при настоятельной потребности идти цели он себе не представляет. Пробегает Акимов, который обращает на тебя внимание, когда ты ему нужен, и с детской простотой просто не видит тебя, если не нужен. Зон с готовой улыбкой, стройный до излишества, жених женихом, откинув голову, спешит на спектакль без малейшего сомнения в предстоящем успехе. Во всяком случае, встречным так кажется. Новый ТЮЗ гастролировал в помещении филиала МХАТа, в бывшем коршевском театре. Я мало знал это театральное помещение. Вышло так, что в студенческие годы я ни разу там не был. Кирпичное здание со ступеньками во всю длину вестибюля. Темно. Рано собравшиеся актеры сидят во дворике у актерского входа. Ощущение домашнее, провинциального театра. Успех «Снежной королевы» меня не столько радует, сколько вызывает смутное чувство вины, как всегда, когда хвалят твою старую вещь. Теплая погода сменяется внезапным похолоданием. Небо ясное, угрожающей темной синевы, и ледяной ветер. И вот приходит наконец вечер премьеры «Тени». Мы идем в Малый театр, когда совсем еще светло. Переходим дорогу у сквера против Большого театра (чего с тех пор я никогда не делаю). Тень впервые играет Гарин. Первый акт проходит с успехом. В директорском кабинете — знатные гости. Среди них глубоко неприятный мне Немирович — Данченко. Неприятен он мне надменностью, которой сам не замечает, — слава его так обработала. Неприятен бородкой, которую поглаживает знаменитым жестом — кистью руки от шеи к подбородку. Неприятен пьесой его, которую я прочел случайно, — кажется, «В мечтах», где он думает, что пишет как Чехов, а пуст, как орех.
Эта пьеса лучше всяких объяснений, разъяснений, и статей, и речей, и анкет доказывает, что Немирович — Данченко — тот же профессор Серебряков. Впрочем, тот двадцать пять лет читал об искусстве, а этот завоевал позицию покрупнее кафедры. И создал спектакль — «Анну Каренину», кощунственное, художественно — подобное чудовище. Когда началась Декада, я слышал разговор работников Комитета по делам искусств, и один из них, к моему удивлению, жаловался на речь, произнесенную Немировичем — Данченко на каком‑то банкете: «Для чего он говорил так подхалимски? Кто от него требовал?» Либо работник Комитета по делам искусств в душе своей носил мечту, что среди знаменитых людей есть и в самом деле достойные, либо повторял мнение высокого начальства. Но до Немировича — Данченко подобные отзывы, разумеется, никогда не доходили. Он поглаживал бороду да процветал. И книгу воспоминаний начал словами: «Мои биографы…» О нем говорили насмешливо, презрительно, но вместе с тем и не без уважения — хитер. И устойчиво, непоколебимо сидел на высоком посту. И вот он пришел на спектакль. И был до того чужд мне в своем величии, до того чужд был мне театр его, который я так робко и почтительно любил лет за двадцать пять до этого дня, что я и не подумал подойти к нему. Хоть, собственно, следовало бы, чтобы Акимов познакомил меня с генералом. Но я не мог представить себе, что хоть как‑нибудь соприкоснусь с миром удачи. Чувство, подобное ревности, вспыхнуло во мне, когда я увидел, как сидит Владимир Иванович хозяином за столиком в кресле, по — старчески мертвенно — бледный, но полный жизни, с белоснежной, щегольски подстриженной бородкой, белорукий, коротконогий. Жизнь принадлежала ему. Храпченко, крупный, крупноголовый, похожий на запорожца, окруженный критиками, хохотал, показывая белые зубы. Режиссеры глядели утомленно. Чувствовалось, что им в основном все равно. Первый акт прошел отлично. И Немирович сказал Акимову: «Посмотрим! Автор дал много обещаний, как‑то выполнит». Во втором играл Гарин, впервые. Лецкий играл Тень простовато, но ясно и отчетливо. Гарин даже роли не знал.
Он играл не то — поневоле. Его маска — растерянного, детски — наивного дурачка — никак не годилась для злодея. И вдруг, со второго акта, все пошло не туда. Я будто нарочно, чтобы испытать потом еще больнее неудачу, против обыкновения ничего не угадал. Самодовольство, с которым смотрел я на сцену, шевеля губами за актерами, ночью в воспоминании жгло меня, как преступление. Когда опустился занавес, я взглянул на Катерину Ивановну и все понял по выражению ее лица. Пока я смотрел на сцену, Катюша глядела на зрительный зал и поняла: спектакль проваливается. Я удачу принимаю неясно, зато неудачу — со всей страстью и глубиной. А жизнь шла, как ей положено. Несколько оживились режиссеры. Чужая неудача — единственное, что еще волновало их в театре. А Владимир Иванович не обратил на нее внимания. Он был занят своим. О пьесе он тоже не сказал ни слова. Что ему было до этого. Он жил. Ему давно хотелось взять Гошеву в Художественный театр. Акимов, двусмысленно улыбаясь, утверждал, будто Немирович — Данченко сказал о Гошевой: «Ирина Прокофьевна — это прекрасный инструмент, на котором при умении можно сыграть все, что захочешь». Я чувствую себя несколько неуверенным в области, которую сейчас придется задеть. Уж очень часто именно тут подтверждалось то, что казалось невероятным. Акимов не сомневался, что Владимира Ивановича обуревают совершенно определенные желания, что Гошева ему нравится как женщина.