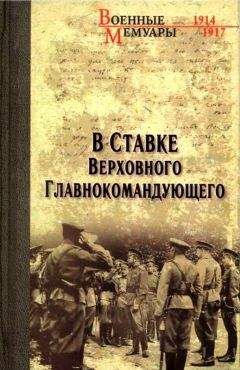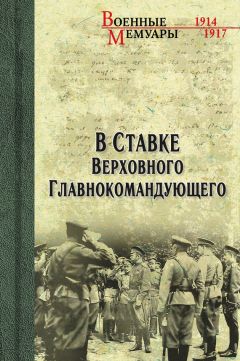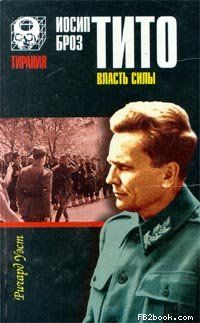Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова
Началась его так много сулившая жизнь в родном Панине 1 августа 1844 года и нелепо рано оборвалась в июле 1872 года, по-тогдашнему — на краю света, в далеком Ташкенте.
Ласковый, добросердечный, одаренный ребенок завоевал сердце матери, полюбившей его едва ли не сильнее всех остальных ее детей и уж никак не меньше самой младшей ее дочери, рано умершей Маши. Отсюда пошло разновидное баловство, печально сказавшееся впоследствии.
В Киеве, в гимназии, живя у дяди С. П. Алферьева, Василий Семенович учится посредственно. Братьям в летние каникулы приходится брать с него своеобразную подписку, начертанную рукою “старшего в роде”, Николая Семеновича:
“1860 года, мая 29 дня. Я, неключимый Искандерка [442], Василий Лесков, даю сию подписку братьям моим Николаю, Алексею и Михаилу, купно с матерью, в том, что, находясь на Панинской почве, я каждый день обязан посвящать три часа в сутки учебным занятиям с 7 часов утра до 10 час. — За несоблюдение сего условия я всякий раз подвергаю себя наказанию от 25 до 50 ударов по мягким частям”. Ниже стоит подпись: “Василий Лесков” [443].
По окончании юридического факультета Киевского университета он, на 23-м году, служит по крестьянскому управлению в Козине, Корсуни, Богуславе, Умани и других пунктах Киевской губернии. Бытовые условия не легки: хлопотно, бесприютно, вечные перекладные… Но уверенный в себе, он бодро пишет матери: “Живу я недурно, занимаюсь своим делом, и дело идет хорошо, ожидаю в июле ревизии и перемены своего положения” [444].
Ничто не пугает. Крестьянские вопросы и нужды хорошо с детства знакомы, правовая сторона усвоена в университете, способности и силы есть, впереди надежда перебраться из захолустья куда-нибудь поближе, а там, смотришь, пожалуй, добраться и до самого Киева. Так рисовалось не одному ему, а и всем близким. Но…
Он был красив, умен, образован, мягок и уветлив в обхождении, обладал прекрасным слухом и таким же голосом, баритоном. Кажется, все для успеха в жизни! На горе ему, в злую додачу ко всем этим данным шло… вино.
Наталия Петровна Константинова, искренно любившая своего многообещавшего племянника, сурово обвиняла сестру Марью Петровну в том, что, не обегая лично, во вдовстве, в глухом Панине чарочки наливки, а то и горькой, она неосторожно рано стала баловать ими и излюбленного сына-подростка, привив ему пагубную слабость.
Как-то летом 1870 года в каком-то большом селе, в престольный праздник, после обедни, перед всею “громадою” Василий Семенович, случившийся не в порядке, влез на дерево и с высоты своей импровизированной трибуны произнес такую речь, что “злякавшийся солтыс” поскакал к исправнику, тот настрочил “донесение”, и подлинно — пошла писать губерния. Потребовалось заступничество ряда благожелателей и поручительство маститого и всеми чтимого дядюшки Алферьева, чтобы кое-как приглушить “дело”. Служба была сорвана, положение скомпрометировано. Пришла безработица. Молодой, полный сил и энергии человек изнывал. В Киеве становилось невыносимо от покровительственных соболезнований, колких шуточек, улыбок. Не в добрый час поделился он своими невзгодами со старшим петербургским братом. С обычной “спешливостью” развернул последний перед ним заманчивые, но едва ли хорошо проверенные возможности в столице. Обескураженный провинциал доверчиво схватился за них с безысходностью утопающего.
Совершается оказавшаяся роковой смена Киева на Петербург.
Сомнения в правильности шага, тягостные предчувствия овладевают Василием Семеновичем уже в пути. Он пишет неосторожно покинутым им киевским своим родным:
“Ночью лил дождь, в вагоне стало душно от печки и табаку, разговор у всех едущих все как-то не клеился, — мне же лично стало грустно так, что я и сказать вам не умею, уж и сам не знаю почему, — рой самых безотрадных дум настолько меня преследовал, что не дал мне заснуть ни на минуту” [445].
В Петербурге его все ждали нетерпеливо, а мать моя — с исключительным сочувствием к постигшей его беде и искренним радушием.
Вообще она никогда не отзывалась о нем иначе, как о человеке прекрасной души и редкого сердца. Отец мой, случалось, вносил тут какие-то непонятные нам условности и недомолвки. Нас это не смущало: мы знали строгость и взыскательность его суда. И братья мои, гимназисты, и совсем еще юная сестра Вера, и хорошо знавшая Василия Семеновича по Киеву кроткая мадемуазель Мари — все радовались предстоящему появлению на нашем часто не безоблачном горизонте нового члена семьи, такого, по словам нашей матери, молодого, доброго, веселого, красивого.
Обо мне уж и говорить было нечего: я знал, чутьем и сердцем брал, что “мой дядя Вася” будет мне в помогу и радость, и буквально горел желанием скорее увидеть первого из всех живущих где-то, в каком-то Киеве, моих дядей.
Лихорадка “ажидации”, впрочем, постепенно охватила вообще весь дом.
Наконец 12 ноября Василий Семенович приезжает.
Пришелся он по сердцу всем. А дальше — совсем завоевал всеобщую любовь и расположение редкостной милотой души и нрава.
Первый день проводит у нас, а на другой нанимает две комнатки напротив.
Идут медовые дни свидания братьев: осмотр города, показ провинциалу достопримечательностей столицы, галлерей, музеев, Эрмитажа.
13-го утром “ездили в омнибусе по Невскому, заезжали к Фумели, ходили по Пассажу”, — пишет он в Киев. Старший брат, не без оттенка снисходительного покровительства, руководит младшим в постижении всех превосходств столичной жизни. Но почему-то слишком как-то рано начинает казаться, что “status” его “до сей минуты — некрасив он незавиден донельзя, а все-таки я в восторге уже от одного того, что я не в Киеве, где мне все надоели и я всем надоел! Чем порадует меня дальше судьба, буду писать. Тебе еще раз спасибо, Алексей, за твое братское добро; шлю тебе глубокий мой привет из моего “прекрасного далека”. Не забывайте меня, — пишите” [446].
Через десяток дней мать, должно быть не без смущения, читает в письме его к ней: “У Фумели учиться, как я вижу, нечему, разве только любезности говорить, но зубы у меня и свои есть”. Выдвигается новая комбинация с присяжным поверенным Г. Добролюбовым, защищавшим Каракозова, но и она оказывается сначала малоосязательной, а потом и вовсе призрачной [447].
Прямого делового устройства нет как нет! Деньжонки на последнем исходе. Заработка нет. Мать посылает к рождеству вторую полусотню. Сын горячо благодарит и пишет ей: “Дела мои идут туго донельзя; до сих пор живу еще лишь одними обещаниями и советами… Буду о вас думать; о себе уже надоело до боли” [448].