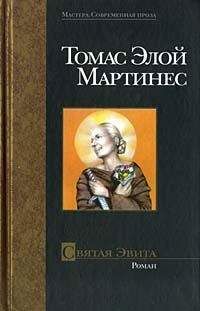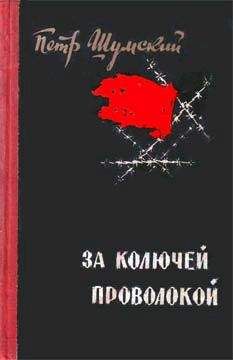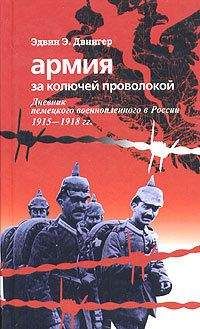Сильвен Райнер - Эвита. Подлинная жизнь Эвы Перон
16
Победоносные войска генерала Лонарди прошли в торжественном марше перед потерпевшими поражение войсками Перона.
Адмиралы и генералы радовались, что вовремя узнали о готовящемся Пероном роспуске рекрутов. Он намеревался оставить кадровый состав без солдат. Конфедерация труда строила планы вооружить шесть миллионов рабочих с целью произвести впечатление на армию и предотвратить ее активные действия. Затем та же конфедерация внесла подозрительное предложение передать своих вооруженных рабочих армии, якобы для поддержания порядка. Все это лишь ускорило решение генералов и адмиралов перейти в наступление. Теперь улица принадлежала им. Улица стала пространством, где могли происходить только демонстрации военной мощи и религиозного почитания церкви, а не разнузданные уличные бои озлобленного народа. Генералы захватили и профсоюзы. Наконец-то они сбросили со своих эполет груз унизительной роли, которую до сих пор им приходилось играть. Они вновь обрели свою сцену с музыкой и цветами, принадлежавшими им по праву. Обширная страна лежала у их ног, и теперь они могли насладиться властью без всяких ограничений.
Нелли Ривас, больная от страха, легла спать в родительском доме. Собачки поместились в ногах ее кровати, а украшения она зажала в кулачке.
Когда ей пришлось в конце концов выйти на улицу, злобные мегеры накинулись на нее и безо всякой жалости к красивым локонам остригли их, как поступали в освобожденных городах Европы. Женщины Боки наказывали таким образом святотатство.
Нелли предала мадонну Эвиту, претендуя на дружбу Перона. Нелли прикоснулась к платьям Эвиты. Нелли позволила себе надеть на пальцы ее кольца. То был акт осквернения святыни, миф оказался запятнанным.
* * *Лучший ученик Военной школы доволен. Скорцени, рослый эсэсовец со шрамом, не спустился с неба по приказу фюрера, чтобы спасти его, как спас Муссолини, запертого в горном отеле, покинутом туристами. Неважно, что этот самый Скорцени встречался с Пероном за несколько недель до тех событий под личиной скромного коммивояжера Круппа. Перон доволен, потому что победил притворную самоуспокоенность страны, назвавшей в качестве ущерба, нанесенного войной, чемодан дипломата, сгоревший в огне во время бомбардировки Берлина, да средства, пошедшие на кормежку моряков «Графа Шпее».
В краю виноградников, коз и мастериц Мендосы, издавна ткавших пончо, Перон когда-то собрал остатки ГОУ. Из этого самого города освободитель Сан-Мартин начал свою победоносную войну против испанцев под знаменами, вышитыми дамами из высшего общества, и с пушками, отлитыми благодаря их драгоценностям. Глядя на задымленный Буэнос-Айрес с борта крейсера, Перон не теряет уверенности своего предка-гаучо, который бросал горсть камней вместо семян, не сходя с коня.
В его немного усталой улыбке заключена слава всех замечательных людей, блиставших на портретах в Военной школе: легендарный всадник, доспехи которого выдерживали удары топора, Фридрих, знаменитый своими дерзкими и хитроумными озарениями, расчетливый Наполеон, фон Мольтке, доходивший до абсурда в своих рассуждениях о безграничных возможностях маневра, немецкие генералы, лихорадочно передвигавшие флажки на карте, превращая войну в непостижимый балет, Людендорф, щадивший гражданское население и безжалостно уничтожавший противника и, наконец, Гитлер, который добавлял в каждую шестеренку гигантского часового механизма войны таинственное зелье медиума.
Подмастерье войны из Буэнос-Айреса улыбается. Его страна познала веяния мужественности.
* * *Перон больше ничем не рисковал. Он ждал на крейсере, облачившись в шелковую пижаму, устав не больше, чем после затянувшейся партии в теннис. Он наблюдал за своим «народом» в порту. Его фанатики превратились теперь в любопытствующих зевак.
Порт усиленно охранялся. Многие утверждали, что Перона вот-вот арестуют. Но другие знали, что крейсер скоро растворится в тумане вместе со своим живым и невредимым пассажиром. Ни у генералов, ни у священников не было намерения создавать Перону ореол мученика, превращать живого поверженного генерала в генерала мертвого и непобедимого.
Дым пожарищ еще устремлялся к небу, но будущее Перона он не омрачал. Наконец-то он совершит то замечательное путешествие, о котором так мечтал среди трудов. Но на покой он уйдет не так, как Эйзенхауэр со своим тромбозом коронарных сосудов; игра в гольф не излечила Эйзенхауэра от забот власти. Не упадет Перон и в кровавую лужу под проливным дождем, как Муссолини, окруженный поборниками справедливости, сбежавшимися со всех сторон, в том числе и из рядов фашистов.
Перон удаляется, засунув руки в карманы, с неизменной меланхолической улыбкой. Он выиграл и проиграл всего лишь богатые просторы пампы и наивную веру аргентинцев. Он выиграл и проиграл всего лишь два миллиарда долларов, которыми его страна обладала в конце войны. Он тянул на себя золотое одеяло, лишь жалкие крохи бросая народу.
Чудо было блистательно осуществлено Эвитой, а теперь остался лишь обаятельный диктатор, ожидающий, когда будут отремонтированы машины старого военного корабля. Диктатор, испивший до последней капли сладость власти и отряхнувший лишь немного известки с рукава, напоминание об ужасной дыре, проделанной авиационной бомбой во дворце, который он оставлял навсегда.
* * *Священники карабкались на баррикады и мешки с песком, болтали на Пласа де Майо с часовыми и обнимались с прохожими. Перед отъездом в Буэнос-Айрес Лонарди причастился в Кордове. Студенты-католики носили по улицам хоругви, на фюзеляже самолета Лонарди красовался крест.
Дождь не прекращался.
Последние сторонники Эвиты лежали под руинами разрушенного штаба, а демонстранты с зонтиками рисовали на капотах машин цифру, обозначавшую время диктатуры: двенадцать лет. Десятки тысяч людей под зонтиками скандировали на улицах лозунги свободы. Облака разорванных листков разлетались из окон. Это были страницы, вырванные из книги Эвиты «Смысл моей жизни».
Людские реки Буэнос-Айреса стекались теперь не к Эвите, а к генералу Лонарди. Толпа ожидала прибытия генерала. Посетители кафе крутили в музыкальных автоматах пластинки с записью «Марсельезы». Столпотворение было таким же, как в лучшие времена Эвиты. Но ее статуи завесили черным, и приставные лестницы опирались о ее каменные бедра. Хрупкий силуэт, воплощенный в шестиметровую статую весом в двадцать тонн, прятал глаза под траурной вуалью. Хрупкая живая женщина, ставшая столь тяжеловесной после смерти, была продана с торгов в своем собственном городе.