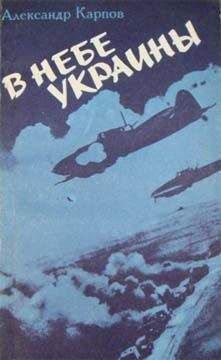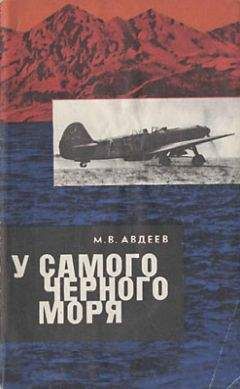Алан Кубатиев - Джойс
В записях к пьесе сказано, что Ричард желает дать Берте свободу, но не может ожидать, что результатом ее обретения окажется супружеская верность. Может статься, что она как раз не сможет примирить их или развязать этот жестокий узел. Но для нее свобода совсем не то, что для Ричарда: не расставание, а сознательное укрепление союза. Она ждет от него хотя бы намека на то же, но он порабощен собственной уверенностью, что не может властвовать над другим человеком. Именно такая любовь к жене удерживает его от решительных действий. Именно поэтому он создает ситуацию, в которой будет только страдать.
Ричард изгоняет себя из любви, Роберт — из собственной чести, Берта — из уверенности в муже и супружестве. Это, как пишет Эллман, метафизическое возвращение, оборачивающееся метафизическим изгнанием.
Но большая часть критиков прочитала пьесу как рассказ об эротомане и вуайеристе. Странно было бы ожидать другого. Не успели «Изгнанники» появиться в печати, их дружно признали «грязью». Почти всему, что напишет Джойс впоследствии, достанется тот же ярлык.
Глава двадцать первая ОДИССЕЙ, «УЛИСС», ПОТОК
Before те floats an image, man or shade,
Shade more than man, more image than a shade…[82]
Слова «Улисс» и «Джойс» в обыденном интеллигентном сознании сплетены навечно. Это не всегда означает, что оно представляет себе их значение. 1907 год — самые ранние упоминания об «Улиссе» или прото-«Улиссе» в записях Джойса. Видно, как растут и усложняются его представления о методе, границах и полноте замысла. То, что всерьез пробуется в «Портрете…», что напряженно звенит в горестно-насмешливом «Джакомо Джойсе», прорастет невероятной красоты и сложности онтогенетическими конструкциями «Улисса».
В записях 1914 года он пробует все более странные приемы — Дюжарден, некогда поразивший его, уже выглядит бледнее. Повествователь Флобера станет Господом Богом и исчезнет, не исчезая, но ему нужны особая техника, новый стиль или даже, как назвал его Элиот, «антистиль».
«Улисс» принято считать высшим воплощением так называемого внутреннего монолога или «потока сознания», в свою очередь являющихся результатом более ранних экспериментов, и не только литературных. Одним из первых воспользовался им Лоренс Стерн — он создал повествователя, говорившего именно так. Старший брат писателя Генри Джеймса, замечательный американский психолог Уильям Джеймс еще в 1890 году писал:
«В каждом личном сознании процесс мышления заметным образом непрерывен. Непрерывным рядом я могу назвать только такой, в котором нет перерывов и делений. Мы можем представить себе только два рода перерывов в сознании: или временные пробелы, в течение которых сознание отсутствует, или столь резкую перемену в содержании познаваемого, что последующее не имеет в сознании никакого отношения к предшествующему. Положение „сознание непрерывно“ заключает в себе две мысли:
1) мы сознаем душевные состояния, предшествующие временному пробелу и следующие за ним, как части одной и той же личности;
2) перемены в качественном содержании сознания никогда не совершаются резко».
«Поток сознания» понадобился литературе XX века прежде всего затем, чтобы рассказать о составе и состоянии личности. И Джойс стремительно проделал путь, новый даже по сравнению с недавно явившимися новациями. Генри Джеймс исследовал перемены в морали человечества; Джеймс Джойс исследовал сам характер, синтезируя его по переменам, мельчайшим деталям и признакам и не давая ему проявляться во вспышках и взрывах, которые разрешал своим персонажам в «Дублинцах» и «Портрете…». Это был скорее путь драмы — его повествователи сами движутся сквозь мир, взаимодействуют с ним, но их собственные переживания и мыслетечения задевают его лишь краями. Персонажи, особенно говорящие в романе, настолько обособленны, что введение Джойсом внутреннего монолога восхитило читателя той иллюзией свободы проникновения в мысли другого, которую до совершенства доводит все же он. Хотя Джойс никогда не скрывал, как тщательно он изучал Дюжардена, Джорджа Мура, Толстого и все доступные примеры, включая дневник собственного брата.
Особенно сложны отношения Джойса с кумиром модернистов Зигмундом Фрейдом. Он забавляется теорией словесных ассоциаций: сами его записи часто именно цепочки слов, оси эпизодов. Он ищет в этих записях ключевые слова, действенные повторы, способные остаться в памяти как простой звук. Самый первый внутренний монолог у Джойса, по мнению Эллмана, вмонтирован уже в конец «Портрета…», но пока еще декорирован под фрагменты дневника Стивена. А одна из первых попыток — это все же финал «Мертвых», где Гэбриел говорит с собой, глядя на спящую жену. Оба они словно бы не находят никого, с кем еще можно говорить на этой земле, — Стивену перестал отвечать Крэнли, Гэбриелу — спящая жена. Но в «Улиссе» Джойс полностью отказывается от дневника-приема, у мыслей героев больше нет и этого подобия контроля, они мечутся, выбирая любое направление.
Еще один элемент построения мира, по Джойсу, — это противопоставление факта мифу. Сама конструкция имени персонажа — Стивен Дедалус — является производным от такого столкновения. К ней можно добавить множество других примеров — Голгофу в конце «Мертвых», «духовного бухгалтера» в «Милости божией», постоянное сравнение героев «Изгнанников» с библейскими персонажами, но допускаются и сравнения другой мифологии: Ричард и Роберт обыгрываются как Захер-Мазох и маркиз де Сад…
В «Улисс» вживлена не только гомеровская и постгомеровская схема — главный герой не только Дедал, но и Икар, не только Гамлет, но и сам Шекспир, не только Иисус, но и Люцифер. Джойсу нужен герой-недохристианин, а еще лучше — язычник, при этом симпатичный читателю. Ему предстояло быть чужаком в городе католиков, но при этом быть его порождением. И Джойс начинает планомерно собирать все, что сделает Улисса дублинцем и не сделает чужим остальному миру. Стивен пока молод и мучительно незрел. Воплощением зрелости будет Леопольд Блум. Они — единство противоположностей, космическая семья, и Джойс все время подчеркивает то умиленное отцовство, что испытывает Блум по отношению к Стивену.
В «Портрете…» герой — матрица, вбирающая элементы, создающиеся и пересоздающиеся. В «Улиссе» Стивен и Блум сталкиваются с одними и теми же положениями и мыслями, и это даже не спор, а нескончаемое сопоставление сложившегося и складывающегося. Они движутся по одним и тем же улицам, но в разное время, думают об одних и тех же вещах, но по-разному, хотя и почти одновременно. Они проживают те же эпизоды — но один проще и яснее, другой глубже, сложнее и путанее, как в «Цирцее». А Мир-Дублин поставляет обрамление, тело, в каждом органе которого они побывали, как эритроциты; но один день возвращает их к сумраку, к теплой тьме, сплетающей всё, к монологу Молли Блум обо всем сразу. «Ночной разум» — называет его один из джойсоведов.