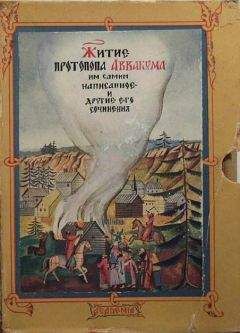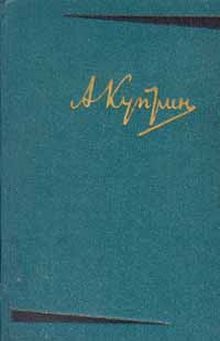Василий Маклаков - Воспоминания. Лидер московских кадетов о русской политике. 1880–1917
Эта бестактность, направленная уже против Святополк-Мирского, Освободительного Движения остановить не могла. Она его только обострила. В рядах самих искренних сторонников самодержавия стали догадываться, что именно во имя его «сохранения» надо с его теперешним реакционным курсом бороться. Потому Освободительное Движение только усилилось в той специальной среде, которая до тех пор считалась опорой престола. Если в глазах интеллигентской общественности сдвиги в этой среде не считались серьезными, то зато в глазах исторической власти именно они казались внушительными симптомами. Укажу на некоторые из этих явлений, которые мне пришлось наблюдать своими глазами. Их влияние на ход событий было гораздо больше, чем тогда думали.
Правительственное сообщение (12 декабря 1904 года), обвинив всех своих противников в том, что «они желают внести смуту в государственную жизнь», пригрозило ответственностью всем учреждениям, всем их представителям, которые позволят себе обсуждение «не относящихся к их ведению вопросов общегосударственного свойства». Этот грубо мотивированный запрет поставил дилемму: либо смолчать и согласиться с характеристикой, которая была дана сообщением, либо продолжать прежнюю линию и этим нарушить высочайшую волю.
Незадолго перед этим шли осенние сессии земских собраний; почти все принимали адреса с казенной просьбой о представительстве. Это превратилось в шаблон, который не волновал никого; от адресов не ждали практических последствий, но за них и не боялись репрессий. Теперь отношение власти к ним переменилось. В числе других обратилось к Государю Черниговское земское собрание. 9 декабря 1904 года на него последовал высочайший ответ. Просьба о представительстве была Государем заклеймена резкой отметкой на адресе: «Нахожу поступок председателя губернского собрания дерзким и бестактным: заниматься вопросами государственного управления не дело земских собраний». Под свежим впечатлением этой отметки 13 декабря собиралось Московское земство.
Было показательно, как поступит оно. Председателем земского собрания был князь П.Н. Трубецкой, лояльность которого к Государю была вне сомнений; губернатором был его шурин Г.И. Кристи, который, в силу родства, мог иметь на Трубецкого влияние, а сам не только по должности, но и по личным убеждениям не мог сочувствовать либеральной демонстрации. После ответа черниговцам обращение к Государю с такою же просьбою было уже ослушанием, «дерзостью и бестактностью», по выражению Государя. Но бывают моменты, когда это становится патриотическим долгом. Так и был поставлен вопрос перед председателем, от которого зависело дело. П.Н. Трубецкой был честным и независимым человеком, но не боевой натурой. Влияние выбравшей его дворянской среды для него могло быть решающим: идти в рядах «ослушников» царской воли было для него не легко. И однако П.Н. Трубецкой на это решился. Помню то заседание земства, где на повестку был поставлен адрес Государю с просьбой о представительстве. Губернатор открыл собрание и поскорее ушел, недовольный, не сказав ни слова привета. Проект адреса был прочитан Ф.А. Головиным. Он был принят без прений. Не помню, были ли голоса против него. Принятие земского адреса в этот момент было не пустой резолюцией банкетного зала; оно было серьезнейшим актом. Левая общественность не ценила того, что протест против самого Государя вышел из лояльной среды, сохранял безупречную форму. В тот вечер от левых я слышал упреки за почтительный тон адреса, за включение в его текст поздравления с рождением Цесаревича, и т. д. Левая общественность не понимала, что главная сила адреса была именно в его лояльности, в том, что его подписал князь Трубецкой и приняли люди, в государственной зрелости которых у Государя сомнения быть не могло. Это было подчеркнуто П.Н. Трубецким в его письме министру внутренних дел. Объяснив мотивы, которые заставили его не подчиниться распоряжению власти, Трубецкой указывал, что единственный путь избежать революции, на которую власть толкает русский народ, но которой народ вовсе не хочет, есть путь царского доверия к общественным силам. Он заявлял, что если «Государь доверчиво сплотит около себя эти силы, то Россия поддержит Царя и его Самодержавную власть и волю». Тот факт, что неповиновение распоряжению власти исходило от сторонника самодержавия, который хотел представительством не ограничить, а укрепить самодержавие, был для Государя аргументом более убедительным, чем банкетные речи. В самом обществе впечатление от письма было громадно. В тысячах списков наша общественность читала его нарасхват, с не меньшей жадностью, чем думские речи в ноябре 1916 года, то есть накануне революции.
Но Московское земство было все же либеральной средой; слева его могли упрекать за «нерешительность», но не за слепую поддержку правительства. Но дух времени проникал в среду, которая до тех пор была опорой непримиримой правой политики. Я хочу напомнить один эпизод, который в моей памяти сохранился: адрес московского дворянства.
Отдельные дворянские собрания не раз присоединяли свои голоса к земским в период, когда адреса следовали один за другим. Но уже после перелома политики, в конце января, предстояла сессия московского дворянства. Оно было особенным по составу. Почти вся служилая знать принадлежала к дворянству столиц. Придворный мир, определявший политический курс, будущие руководители Союза объединенного дворянства почти все входили в его состав. В нем были губернаторы доброй половины России. Немудрено, что при таком составе московское дворянство было оплотом правительства; оно восторгалось реформами Александра III и осуждать действий власти себе не позволило бы. Отдельные уезды могли выбирать предводителей иного образа мыслей; но это было более по личным связям, чем из сочувствия их политическим взглядам. Оно со злобой глядело на Освободительное Движение, за его демократические симпатии, за его равнодушие к традициям самодержавия. Потому в то время, как адреса с требованием представительства широкой волной катились в Петербург, правые возлагали надежды на отрезвляющий голос московского дворянства. Оно должно было подать свой адрес и сказать свое слово; и в этом смысле началась агитация.
Либеральное направление не могло надеяться отстоять своих позиций в московском дворянстве, но оно решило не сдаваться без боя. Кампания пошла с обеих сторон. Были мобилизованы все. Я никогда не принимал участия в дворянских собраниях, и мне пришлось шить мундир. Нам помогало, что предводитель, князь П.Н. Трубецкой, нам сочувствовал; реакционный адрес показался бы осуждением ему самому. Его помощь была очень действительна. Всякое предложение должно было идти через собрание депутатов; громадное большинство в нем было против нас. По настоянию П.Н. Трубецкого было решено доложить общему собранию все адреса; было решено голосовать как на выборах, то есть голосовать все адреса шарами так, что несколько адресов могли получить большинство. Этот способ давал нам наибольшие шансы. Были предложены адреса трех направлений: правых, конституционалистов и сторонников совещательного представительства. Две последние группы собрались на совместное обсуждение. При обсуждении адресов обнаружилось сразу, что конституционный не имел шансов пройти: он бы только разбил голоса. Конституционалисты не стали настаивать. Доводы освобожденцев о необходимости «отмежевания» и выявления перед страной реакционной сущности славянофилов отклика найти не смогли. Конституционный адрес был снят, и решено голосовать за адрес, который соединял представительство с самодержавием. Предварительно было созвано общее частное совещание. Адреса Государю публично только голосовались. Мы собрались в боковых залах собрания, где обычно происходили заседания губернского земства. Адреса были прочитаны: правый – А.Д. Самариным, наш – П.Д. Долгоруковым. Перешли к прениям. Вначале никто не хотел говорить: Трубецкой настоятельно просил всех высказаться. Он подчеркивал необходимость соглашения, иначе будет голос одного большинства, а не дворянства.[60] Единогласие представлялось недостижимым и потому прения бесполезными. Убеждать это собрание было неблагодарной задачей. Но перчатка была брошена, и ее нужно было поднять. Первым просил слова Ф.Ф. Кокошкин. Он остановился на словах первого адреса о единении царя с землей и доказывал, что такое единение, если его искренне желать, немыслимо без «представительства». Трубецкой, без моей просьбы, предоставил мне слово. Я отмечал, что адрес большинства не отрицает необходимости реформ, но только считает их несвоевременными до «прекращения войны и смуты» и что это есть тот гибельный лозунг – сначала успокоение, а реформы потом, – которым наша государственная власть довела себя до тупика. Наконец, Н.Н. Щепкин живыми красками описывал недовольное настроение, которое разлито повсюду в стране, и общее убеждение, что причина наших неурядиц в бюрократии. Нам всем отвечал Ф.Д. Самарин. Но спор пошел не на той позиции, где бы он хотел принять с нами бой; он рад бы был ополчиться на конституцию, но за нее никто не высказывался, а единение Царя с народом в форме легального представительства соответствовало старым славянофильским традициям, против которых Самарину возражать было неловко.