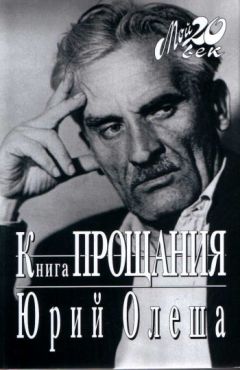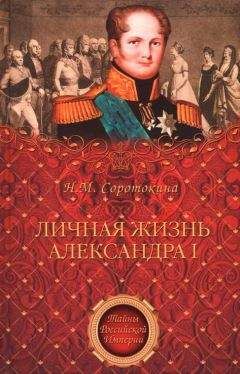Юрий Олеша - Книга прощания
Меня сейчас интересует только одно — научиться писать много и свободно. Пусть это будет о краске кармин или о маке, пусть это будет…
Пусть это будет рассказ об уроке рисования в гимназии, когда мы, сидя в актовом зале, рисуем с натуры чучело ястреба. Учитель рисования, Иван Архипович Архипов, пшеничный блондин в почти голубом мундире, который развевается на нем, ходит среди нас и говорит каждому слова одобрения.
— Эва, наливает! Глядите-ка, эва! — восклицает он, останавливаясь возле Коли Данчева.
Он особенно любил Колю Данчева.
Коля Данчев — болгарин. В Одессе их много, болгар, — целая колония. Кроме Данчевых — Рашеевы, Болгаровы, Гулевы, Увалиевы. Данчев небогатый, однако все же помещик, мы дразним его по поводу именно его принадлежности к богатым. У него крупный, часто подвергающийся насморку нос, он сильный мальчик — даже несколько развинченный, какими бывают как раз сильные мальчики…
Меня никогда не интересовала экономика. Все мое существование в экономике выражалось в том, что я покупал в булочной хлеб, в магазине обуви — ботинки, в театральной кассе — билеты.
Мне не приходило в голову, что такое положение вещей, в котором я получаю за что-то деньги и за что-то их отдаю, зависит от каких-то причин, которые могут изменяться и которые надо почему-то изменять. Это положение вещей казалось твердым, даже не подлежащим обсуждению, твердо ли оно, — казалось раз заведенным, давно заведенным, правильным, счастливо найденным, идеальным.
В самом деле, что могло быть для воображения более достойным одобрения, чем, скажем, бакалейная лавочка? Она была освещена желтым светом керосиновой лампы, бросавшей на плиты тротуара желтые прямоугольники, иногда скошенные и предвещавшие французскую живопись; она всегда помещалась в углу большого с кариатидами дома, и, чтобы спуститься в нее, нужно было сбежать по нескольким ступенькам, отчего делалось весело; в ней можно было купить почтовую марку, переводные картинки, фунт крупы, огурцы, ракету.
Ты опять, Добродеев, всплываешь в темном пространстве закрытых век. Причем кроме тебя в этом бесконечном пространстве я вижу еще кости Строгановского моста… Вот ты выбегаешь из твоего трактира, бритый, подвижной, с голой головой, — скорей, похожий на ксендза, чем на хозяина трактира, где носятся волны чайников, оседающие то тут, то там, — волны чайников с травой, рыбами и птицами.
Помнишь ли ты меня, Добродеев? Я был тогда мальчиком, и ты как-то заметил меня — во всяком случае, смеялся вместе со мной по забытому мною поводу… Чайники летали, и с них не сыпалась трава и не сползали рыбы. Я стал писать на языке, на котором писал Пушкин, разговаривали декабристы, на котором царь поздоровался со мной, сидя на лошади.
Все хорошо, Добродеев. Скоро я буду черепом, и меня не отпоют в костеле на Екатерининской, куда ты, хоть и православный, а заглядывал, потому что хотел увидеть, как идет из темноты платок Марианны, которую ты любил.
Как было приятно в эпоху первой любви, выйдя на поляну перед дачей, увидеть вдруг девочку в другом платье — не в том платье, в котором привык ее видеть, а в другом, новом, как видно, только что сшитом. Пожалуй, оно было синее, отделанное по воротнику и подолу, а также по концам рукавов красной тесьмой. Это появление возлюбленной в новом платье усиливало любовь чуть не до сердцебиения, чуть не до стона. Страшно было даже приближаться к ней, и она тоже, восхищенная собой, оставалась стоять недалеко от черного дерева с отчетливо видимыми издали локонами.
Между нами было пространство осенней, в кочках, земли, на которой ни с того ни с сего вдруг начинали кувыркаться листья.
Есть в мире некий гений, который, вселяясь то в одну, то в другую женщину, принимает примерно одну и ту же наружность, чтобы звать именно меня.
Появился он, этот гений, гораздо раньше моего рождения.
Мальчиком и многие годы потом, уже взрослым человеком, из всех зрелищ я больше всего любил цирк.
Да и не только в качестве зрелища воспринимал я цирк, нет, отношение было сложнее, еще и мысли о славе переплетались у меня с цирком; я представлял себе, что буду знаменитым цирковым актером, именно прыгуном! Также и пробуждавшаяся чувственность находила свои тайные воплощения в образах цирка… Кому бы ни принадлежали ноги в трико, кто бы ни был обсыпан по бархату золотыми блестками, на чьем лице ни играла бы застывшая малиновая улыбка — все это говорило о том, что в мире есть какая-то великая тайна, которую я скоро постигну, ради которой живу.
Стоит вспомнить, как горды мы в юности. Эта гордость основана на сознании своей красоты и силы — если вы даже и не красивы и не сильны! Да, да, красоты и силы, так как молодость по существу красива и сильна. Может быть, потому именно, что предчувствуешь все же, что кто-то прильнет к тебе — только к тебе, отдастся тебе, полюбит тебя!
Пожалуй, гордость — одно из главных переживаний юности… Я помню себя очень гордым — в серой шинели гимназиста, у которой черный каракулевый воротник, с лицом, которое пышет, с бровями, мягкость которых я сам ощущаю, — поистине соболиные брови мальчика!
И вот я сижу в цирке в субботний вечер. Билет куплен на деньги, сбереженные в течение недели от пятачков на завтрак. О, это никак не умаляет гордости! Боже мой, я силен и красив — я юн! — а то, что у меня нет денег, — разве они есть у полубога?
Я приобрел этот билет путем непосредственной затраты сил, физических и душевных, — ждал в очереди, верил, что дождусь, вдруг терял веру… Я честно добился его, этого листка тонкой бумаги с лиловым штемпелем!
Вот он у меня в руках. Да, тонкая, почти просвечивающая желтоватая бумага, да, лиловый штемпель… Но это право попасть в этот плюшевый рай, в этот рай мрамора, ступеней, золота, матовых ламп, арок, коридорчиков, эха, хохота, блестящих глаз, запаха духов, стука каблуков — мало ли чего!
Цирк в детстве произвел на меня колоссальное впечатление. Мне иногда хочется сказать, что желтая арена цирка это и есть дно моей жизни. Именно так — дно жизни, потому что, глядя в прошлое, в глубину, я наиболее отчетливо вижу этот желтый круг с рассыпавшимися по нем фигурками людей и животных в алом бархате, в блестках, в перьях и наиболее отчетливо слышу стреляющий звук бича, о котором мне приятно знать, что он называется шамбарьер, а также крик клоуна: «Здравствуй, Макс!» — и ответ на него: «Здравствуй, Август!»
Вихрь клоуна — бело-малиново-золотой вихрь с неподвижным камнем белой маски среди этого вихря — в любой момент, стоит мне только подумать, взлетает в моей памяти. Тогда клоуны говорили как бы по-английски. Они были в белых чулках и блестящих золотых туфлях. Они давали друг другу пощечины, звеневшие во весь цирк, механизм которых трудно было и очень хотелось постигнуть.