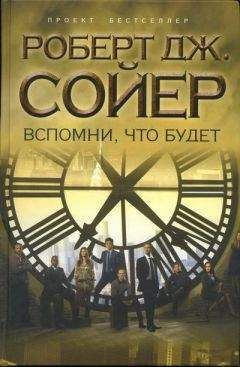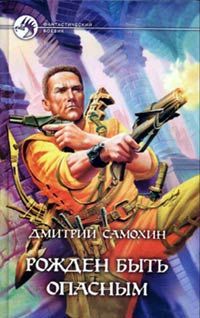Семен Резник - Мечников
Выделив курсивом вторую часть возражения Толстого, Мечников совершенно не заметил первую половину его реплики:
«Этого мы не можем знать».
Вот слова, в которых не менее важный ключ к пониманию взглядов Толстого на науку.
В ученых Лев Николаевич видел людей, выдающих за истину свои сомнительные предположения. Такую (действительно нередкую в науке) подмену он считал «предрассудком науки» и не уставал повторять: «Не бойся незнания, бойся ложного знания. От него все зло мира». «Бойся не незнания, а ложного знания. Лучше ничего не знать про небо, чем думать, что оно твердое и на нем сидит бог. Но немного лучше и то, чтобы думать, что то, что нам видимо как небо, есть бесконечное пространство: бесконечное пространство так же не точно, как и твердое небо».
В последнем высказывании при желании можно увидеть предвосхищение эйнштейновской теории замкнутого пространства, однако смысл его, разумеется, не в этом.
Еще в те времена, когда Толстой не верил в бога (или думал, что не верит в бога) и верил в прогресс (или думал, что верит в прогресс), — еще в те времена он относился к науке со сдержанной настороженностью. Толстой слишком рано и с удивительной прозорливостью понял, что наука сама по себе не может улучшить нравственность. Но, может быть, именно потому, что он понял это слишком рано, он не смог понять, что наука нравственности и не ухудшает.
Постепенно от сдержанной настороженности он перешел к активному отрицанию науки. Уже в 1878 году он писал Н. Н. Страхову:
«Я говорю, что человек, который, как Сократ, говорит, что он ничего не знает, говорит только то, что на пути логического разумного знания ничего нельзя знать, а никак не то, что он ничего не знает, ибо положение: я знаю, что ничего не знаю, есть явная бессмыслица <…>. И потому положение о том, что наука не дает знания, ведет непременно к вопросу: что же мне дает знание?»
Что же, по мнению Толстого, дает знание, если его не дает наука? Непосредственное нравственное чувство! Эту мысль он варьирует многократно — в письмах и статьях, в дневнике и своеобразных проповеднических сочинениях «Круг чтения» и «Путь жизни».
«Я пришел к тому убеждению или, скорее, вернулся, — записал Толстой в дневнике 15 сентября 1904 года, — что всякое объективн[ое] изучение есть суета, обман, даже преступление, попытка познать непостижимое. Только свой субъективн[ый] мир открыт человеку, и только изучение его плодотворно. Изучение внешнего мира есть изучение данных своих чувств (sens). И потому и изучение внешнего мира — ествен[ные] науки — плодотворно только тогда, когда материал его — впечатления. Как только изучается невидимое, неосязаемое — начинает[ся] ложное знан[ие]».
А вот другая дневниковая запись, выражающая его мысли с особенной четкостью:
«Человек познает что-либо вполне только своею жизнью. Я знаю вполне себя <…>. Я знаю себя тем, что я — я. Это высшее или скорее глубочайшее знание. Следующее знание есть знание, получаемое чувством: я слышу, вижу, осязаю. Это знание внешнее: я знаю, что это есть, но не знаю так, как я себя знаю, что такое то, что я вижу, слышу, осязаю. Я не знаю, что оно про себя чувствует, сознает. Третье знание еще менее глубокое — это знание рассудком: выводимое из своих чувств или переданное знание словом от других людей — рассуждение, предсказание, вывод, наука.
Первое. Мне грустно, больно, скучно, радостно. Это несомненно.
Второе. Я слышу запах фиалки, вижу свет и тени и т. д. Тут может быть ошибка.
Третье. Я знаю, что земля кругла и вертится, что есть Япония и Мадагаскар и т. п. Все это сомнительно.
Жизнь, я думаю, в том, что и третье, и второе знание переходит в первое, что человек все переживает в себе».
Выходит, дело не только в чувствительности художественной натуры Толстого, а в его стойком убеждении, что «внешнее» знание неотделимо от заблуждений, что по-настоящему можно знать лишь самого себя и что знание человека расширяется не путем логических рассуждений, не путем почерпнутых от других людей (из книг, например) сведений, а путем переживания в себе, вбирания в себя того, что прежде было внешним. О да, конечно, это рассуждение художественной натуры! Но — и это парадоксально — рассуждение, строго подчиненное логике.
…Нет, не одна только дверь преграждала путь в тайник души Толстого. Мечников нашел ключ? Да он ничего не искал! Он давно уже держал его в руках. Но ключ этот, будучи универсальным, обладал одним незаметным его владельцу недостатком: он отворял лишь дверь в прихожую, но не подходил к замочкам, на которые запирались внутренние покои.
8И у Толстого тоже был свой ключ, и он тоже открывал лишь дверь в прихожую. Милый, простой человек этот Мечников, понятный. Он всю жизнь посвятил своей науке.
Все правильно в этих словах, кроме одной малости.
Мы-то знаем: не потому Мечников оправдывал науку, что бездумно отдал ей себя, а потому отдал себя науке, что с младых лет считал ее единственным средством улучшить человеческую жизнь и самого человека.
9— Этого мы не можем знать, и вообще, если мы все будем подвергать рассуждению, то мы сможем дойти до самых невероятных нелепостей. Пожалуй, в таком случае можно будет оправдать и людоедство.
— Людоедство! — подхватил Мечников. — А знаете, в Центральной Африке, в Конго, есть племена, у которых победители поедают своих пленников. Пленника сначала подводят к вождю, и он отмечает на его теле место, которое хотел бы съесть сам, потом отмечают аппетитные места другие, в порядке старшинства, а остатки идут всем остальным.
«Лев Ник[олаевич] был ужасно этим поражен, и вот здесь проявилась его необыкновенная отзывчивость и чувствительность. Он ближе всех нас, гораздо более молодых, принимал к сердцу эту жестокость и, видимо, страдал от нее», — сообщала Ольга Николаевна подруге. Думаю, для ее памяти не будет оскорбительным замечание, что поет она здесь (это чувствуется и в других местах ее письма) с голоса своего мужа.
Толстой спросил, существуют ли у этих племен какие-нибудь религиозные представления, и когда Мечников ответил, что им, как и другим дикарям, не чуждо поклонение предкам, сказал задумчиво:
— Это все та же вера в единое вечное начало жизни, которое живет в человеке…
— Людоеды Конго считаются не более злыми, чем их соплеменники, не едящие человеческого мяса, — гнул свое Мечников. — Путешественники объясняют людоедство в Центральной Африке тем, что там распространена гибельная для животных болезнь тце-тце. Разводить скот невозможно, а инстинктивная потребность в питании мясом существует, вот они и поедают себе подобных.