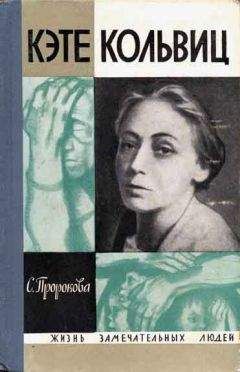Софья Пророкова - Репин
«Мир искусства» был заинтересован в привлечении Репина. Художник с такой огромной славой придавал солидности новому изданию. Репину был посвящен целый номер журнала.
Но содружеству этому не суждено было оставаться прочным. В одном из номеров журнала появились нелестные, насмешливые отзывы о Владимире Маковском, Верещагине и других с требованием выкинуть их картины из музеев. Это уже, было открытое наступление на реализм. Репин вскипел, разбушевался и хотел немедленно выйти из состава редакции. Его уговорили остаться, опубликовав заявление, что сотрудники редакции не отвечают за статьи и рисунки, которые в них печатаются.
Но повторение таких же выпадов против уважаемых Репиным художников вынудило его «вторично и бесповоротно устраниться от всякого участия в журнале».
С той поры он воевал с доморощенными декадентами и написал о своем разрыве с «Миром искусства» открытое письмо.
Интересна история взаимоотношений Репина с княгиней Тенишевой (певицей, художницей, коллекционеркой, женой крупного промышленника). Репин был с ней в наилучших отношениях, поддерживал ее «просветительские» начинания и руководил ее художественной школой в Петербурге.
По мере распространения влияния буржуазного западного искусства и княгиня Тенишева, представительница крупного промышленного капитала, резко меняет свои привязанности.
После декадентской выставки Дягилева, не предупредив Репина, Тенишева закрывает свою школу в Смоленске, передав средства на финансирование журнала «Мир искусства». Об этом вероломстве не скажешь лучше самого Репина. Художнику А. А. Куренному он писал 23 июня 1899 года:
«…Да, издательство журнала вообще весьма опасная забава, я никогда не сочувствовал княгине на этой дорожке. Но если бы Вы знали, какой грубости с ее стороны я удостоился здесь!
Теперь, конечно, это прошлое, но я и теперь не могу спокойно вспомнить… Я прервал с нею навсегда всякое общение. Конечно, я по-прежнему буду содействовать всем ее благородным делам, и только к ним и остается мое уважение. А вся лживость, карьеризм, купеческое самодурство мне ненавистны…»
Этот взрыв благородного гнева станет понятен, если напомнить о том, что несколько лет назад княгиня Тенишева приложила немало энергии и изворотливости, чтобы обольстить и залучить к себе Репина. Княгиня засыпала художника букетами роскошных роз, панегириками, устраивала пышные приемы в его честь. Она долго добивалась того, чтобы Репин согласился писать ее портрет. И когда это согласие было получено, то княгиня вошла в мастерскую художника в сопровождении двух слуг, несших за ней картонки с туалетами, на выбор.
Портретов Тенишевой было написано немало. В пышном бархатном платье с большим декольте, и сидящей в кресле, и во весь рост, и в усталой позе с палитрой в руках.
Именно около этого рисунка на выставке остановился Лев Толстой и очень серьезно спросил:
— А это что за барынька?
Тут сказано все очень исчерпывающе.
Это было тогда, когда титулованной купчихе, играющей роль «просветительницы», нужно было имя великого художника. Но в конце девяностых годов, по мере нарастания рабочего движения, буржуазные «просветители» стали резко отворачиваться от искусства правды в сторону бессмысленного и жеманного искусства декадентов. Автор картины «Арест пропагандиста» был уже для них фигурой опасной.
Так Репин поплатился за свою мягкотелую доверчивость. А нам от этого знакомства оставил несколько портретов княгини салонного пошиба и дурного вкуса, без которых его портретная галерея только бы выиграла.
Столкновение Репина с модернистами привело к сближению друзей. После пяти лет разлуки и вражды Стасов снова стиснул Репина в своих могучих объятиях, а впоследствии известил об этом примирении статьей «Чудо чудесное».
В статье Стасов в очень многом опровергал свои былые жестокие обвинения. Оказывается, уж не таким страшным ренегатом был Репин.
«Конечно, он ничего никогда не изменил в самом главном, — в своем творчестве, — здесь он не пошел никуда в сторону и остался все прежним: свидетель тому его последняя картина, талантливая и потрясающая по выражению «Дуэль», которая удивила всю Европу на Международной выставке 1897 года, в Венеции».
Как много изъянов нашел тот же Стасов в этой картине во время их ссоры!
И с Академией, оказывается, все не было так трагично, как в свое время об этом трубил Стасов. К прежней, старой, Репин относился критически, «…на новую, — писал Стасов, — он возлагал все надежды, и это потому, что это была Академия уже совершенно другая, такая, которая желала неприкосновенно уважать личность и самостоятельность художника, которая отступала от всякого художественного деспотизма и оставляла за собой только обязанности технического школьного обучения. Как же смешивать эти две академии, как же злостно попрекать Репина, навыворот, в его симпатиях и антипатиях?»
Вот он, усмиренный вулкан. В порыве примирения Стасов забыл, как терзал он сам Репина за непоправимость и неосмотрительность его вступления в Академию.
Даже и о тяготении Репина к декадентству Стасов вспоминает мягко, радуясь тому, что художник увидел всю никчемность этого нового направления.
27 июля 1899 года Репин написал Стасову письмо, которое читается как гимн искусству:
«…А вот что я Вам напишу. Я с большой радостью гляжу на Вас с тех пор, как Вы поздоровели. Вы все тот же. Та же кипучая натура, та же жажда новизны, деятельности, тот же упругий змий прогресса жалит Вас в самое сердце, так же часто. Прекрасно, дай бог еще на многие годы!
Должен Вам сказать и о себе то же самое: я все тот же, как помню себя. И, несмотря на то, что меня многие, с Вашей легкой руки, то хоронили, то воскрешали, то упрекали в разных эволюциях, то в отступничествах, то в покаяниях, я ничего не понимаю в этих внимательных исследованиях моей личности. Я все так же, как с самой ранней юности, люблю свет, люблю истину, люблю добро и красоту как самые лучшие дары нашей жизни. И особенно искусство! И искусство я люблю больше добродетели, больше, чем людей, чем близких, чем друзей, больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей. Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо… Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, кем бы я ни восхищался, чем бы ни наслаждался… Оно, всегда и везде, в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, сокровеннейших. Часы утра, которые я посвящаю ему, — лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти все в этих часах, которые лучами освещают или омрачают все эпизоды моей жизни. Вот почему: Париж или Парголово, Мадрид или Москва — все второстепенно по важности в моей жизни — важно утро от 9 до 12 перед картиной…