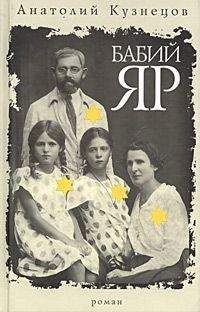Анатолий Равикович - Негероический герой
Казаков показался мне каким-то дерганным, что было вполне объяснимо при начале съемок.
– Пьесу Зорина читал?
– Нет.
– Ну и хорошо, прочти сценарий. Завтра в десять проба.
Он показал мне две сцены, которые будут снимать. Вечером в гостинице я прочитал сценарий и был немного разочарован. Материал показался мне уж очень литературным и ситуация с бывшим мужем, которого опекает бывшая жена, выглядела натянутой, искусственно придуманной.
«Впрочем, какая тебе разница, – думал я, – снимешься и – домой. Главное, что краситься не надо».
С этими мыслями я и заснул.
На пробах я столкнулся с новшеством: стоял телевизионный монитор, камера, все снималось на видео и тут же просматривалось. Очень удобно. Я сыграл, что требовалось, попрощался и отбыл восвояси. Казаков, кроме дежурных слов: «Все нормально. Спасибо», – ничего не сказал.
Что-то около месяца Москва молчала. Я был уверен, что этим дело и закончится. Но нет. Позвонил Казаков и сказал, что только что худсовет Мосфильма утвердил меня на роль Хоботова и что я срочно должен дать свою занятость в театре, чтобы составить план съемок. Снимать планировалось с августа и до конца года, чтобы застать зиму. Это было нежданно-негаданно, и оттого еще приятней. Потом позвонил директор и сказал, что мне надо срочно приехать в Москву снять мерки для шитья костюмов и заключить договор.
– У вас есть киноставка?
– Да, шестнадцать рублей пятьдесят копеек.
– Что это за ставка? Это же неприлично. Звание?
– Да, я заслуженный артист.
– Хорошо, постараюсь выбить вам на эту картину двадцать пять рублей за съемочный день.
Тогда платили не по взаимной договоренности между продюсером и артистом, как сейчас, а строго по ставке, утвержденной худсоветом студии. Самая большая ставка была сорок рублей за съемочный день. Ее имели Смоктуновский, Евстигнеев, Ульянов и другие артисты этого же ряда. А самая маленькая – десять рублей.
Казаков встретил меня очень тепло, и у нас состоялся долгий разговор о предстоящих съемках, о моей роли, о том, что он хочет рассказать этой картиной.
Но сначала я узнал, как проходил худсовет, на котором утверждали артистов. Все шло гладко, пока не прозвучала моя фамилия.
– А почему Равикович? Что, Хоботов еврей? – спросил начальник актерского отдела «Мосфильма» Адольф Михайлович Гуревич, про которого говорили: «Хорошего человека Адольфом не назовут».
Все сделали вид, что не расслышали его реплики, и после недолгого обсуждения согласились с моей кандидатурой. Адольф Михайлович спрашивает снова:
– Товарищ Казаков, мы что, еврейское кино снимаем?
На что директор «Мосфильма» Сизов, он же председатель худсовета, с мягкой улыбкой замечает:
– Адольф Михайлович, что вы, право! У нас же многонациональная страна.
На этом все и кончилось, к неудовольствию Адольфа Михайловича, которому не дали выполнить его святую обязанность – соблюсти квоту на количество евреев, занятых в фильме. Эти квоты существовали тогда во всех сферах советской жизни: на прием в вузы, на руководящую работу, на врачей, ученых и т. д. Адольф Михайлович, сам еврей, был чрезвычайно удобен тем, что мог вслух произнести то, о чем другие помалкивали. А случилось так потому, что вопрос обо мне был оговорен Казаковым с Сизовым, а Гуревич об этом не знал.
– Очень просился на Хоботова Андрей Миронов, – продолжал делиться со мной Казаков, – он видел в Театре на Малой Бронной мой спектакль «Покровские ворота», который ему очень понравился. Но я ему честно сказал: «Андрей, зачем тебе гондон на голову натягивать, когда у меня есть Хоботов-Равикович?» Потом Казаков рассказал, каких трудов стоило ему пробить этот сценарий.
– Они ведь не дураки. Они понимают, про что эта вещь. Про то, что счастливым человека нельзя сделать насильно. А ОНИ-то именно это и пытаются с нами сделать. Дескать, не понимаете вы своего счастья. Мы вас к нему ведем, а вы все сопротивляетесь. Поэтому и придирались к любой мелочи, лишь бы не пустить картину в производство.
Я осторожно высказался насчет не слишком правдоподобной истории с двумя мужьями Маргариты Павловны.
– Да, это есть. Но меня это не пугает, – сказал Миша. – Я и не хочу, чтобы картина была бытово-реалистична. У нее должна быть особая интонация. Это притча, поэтическое размышление. В фильме будут стихи, песни Булата Окуджавы. Поэтому сюжет здесь может быть отчасти условным. Но играть эту историю надо очень эмоционально.
Он был страшно увлечен предстоящей работой, и было видно, что картина вся, со всеми подробностями, уже стоит перед его мысленным взором, осталось ее только снять. Перенести на пленку.
Начались съемки. Из актеров я не был знаком раньше ни с кем, кроме Игоря Дмитриева, нашего ленинградского артиста. Самым маститым был Леонид Броневой, которого как Мюллер никто иначе за глаза и не звал. Он много лет прослужил в Театре на Малой Бронной и был занят почти во всех знаменитых спектаклях Анатолия Эфроса. Его ценили в профессиональной среде, но огромную популярность и любовь публики он завоевал, снявшись в «Семнадцати мгновениях весны». Так бывает довольно часто. Только кино и телевидение делают артиста знаменитым. Вот, к примеру, замечательный артист БДТ Евгений Лебедев не был широко известен, хотя им как театральным артистом восхищалась вся Европа. Не был известен, потому что мало снимался и не в очень известных фильмах (исключая «Свадьбу в Малиновке»). А наши газеты и журналы внушают читателю мысль, что настоящий артист тот, кто снимается в кино.
Леонид Сергеевич оказался человеком язвительным. За долгие годы работы он хорошо изучил театральные и кинонравы и умел за себя постоять.
– А зачем вы потратились на такси? – наставлял он меня. – Совершенно зря. Надо было стоять и ждать, пока за вами не приедут из группы.
– Так ведь смена началась в десять, а уже было одиннадцать. Машины все нет, я боялся, что Казаков меня убьет или сойдет с ума.
– Ничего бы не произошло. А вот теперь, когда вы дали слабину, они вообще перестанут присылать за вами машину.
Как-то в паузе во время съемок он рассказал, как поссорился с Эфросом.
– Приезжает Эфрос из Америки – это была его первая поездка с целой группой театральных генералов. Ну, всем же любопытно, никто же там не был. И вот мы сидим всей труппой, а он начинает: «Откровенно говоря, я ожидал от Америки большего. Вот мое первое впечатление: открываю двери номера, вхожу, ставлю чемодан, оглядываюсь и вдруг вижу – по полу бежит здоровый таракан. Представляете?» – А я возьми да и брякни: «А может, он из вашего чемодана?» Ну и вот. Он мне этого не простил. Пришлось уйти.
С Инной Ульяновой мы быстро нашли общий язык, подружились, и она даже пригласила меня к себе домой. Она жила в маленькой однокомнатной квартире, вылизанной, со всякими милыми занавесочками, с сувенирчиками на полках. Мы сидели, пили чай и сплетничали. Этажом выше жил Валерий Брумель, олимпийский чемпион и рекордсмен мира по прыжкам в высоту, ее хороший приятель. «И, если я захочу, она нас познакомит», – сказал я себе.