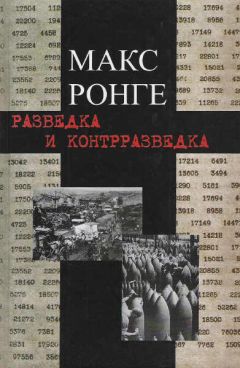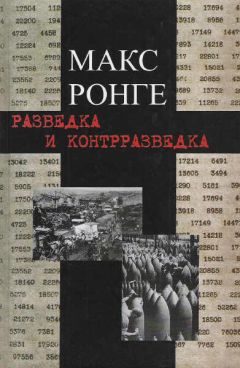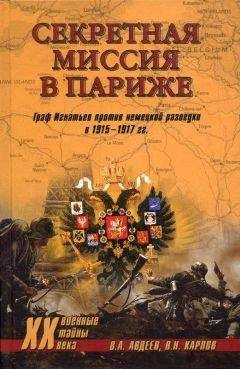Иоганн Эккерман - Разговоры с Гете в последние годы его жизни
— Сразу даже и не поймешь, — продолжал Гёте, — как поэт, подобный Мандзони, умеющий создавать столь удивительные композиции, мог хотя бы на мгновение погрешить против поэзии. На самом же деле все очень просто. Дело в том, что Мандзони — прирожденный поэт, каким был и Шиллер. Но в наше убогое время поэт в окружающей жизни не находит для себя подходящей натуры. Шиллер, чтобы помочь себе в этой беде, обратился к истории и философии, Мандзони только к истории. Шиллеров «Валленштейн» так велик, что вряд ли найдется второе произведение в этом роде равное ему, но вы согласитесь что именно это могущественное его подспорье — история и философия, в отдельных местах становятся поперек дороги его творению и умаляют его чисто поэтическое воздействие. Так вот и Мандзони страдает от избыточного историзма.
— Ваше превосходительство, — сказал я, — вы открываете великие истины, и я счастлив, слушая вас.
— Мандзони, — отвечал Гёте, — наводит нас на хорошие мысли.
Он собирался продолжить рассказ о своих наблюдениях, но возле ворот сада нам повстречался канцлер, и разговор прервался. Всегда желанный гость, он присоединился к нам. Мы проводили Гёте вверх по маленькой лестнице и через комнату бюстов в овальный зал, где были спущены жалюзи и на столе у окна горели две свечи. Сели за стол. Гёте с канцлером заговорили о разных, совсем других делах.
Понедельник, 24 сентября 1827 г.Ездил с Гёте в Берку. Мы выехали вскоре после восьми. Утро было прекрасное. Дорога поначалу идет в гору, и так как природа вокруг неинтересная, то Гёте заговорил о литературе. Известный немецкий писатель был на днях проездом в Веймаре [51] и принес Гёте свой альбом.
— Какой ерундой он наполнен, вы себе и представить не можете, — сказал Гёте. — Все поэты пишут так, словно они больны, а мир — сплошной лазарет. Все твердят о страданиях, о земной юдоли и потусторонних радостях; и без того недовольные и мрачные, они вгоняют друг друга в еще больший мрак. Это подлинное злоупотребление поэзией, которая, в сущности, дана нам для того, чтобы сглаживать мелкие житейские невзгоды и примирять человека с его судьбой и с окружающим миром. Но нынешнее поколение страшится любой настоящей силы, и только слабость позволяет ему чувствовать себя уютно и настраивает его на поэтический лад.
— Я придумал неплохое словцо, — продолжал Гёте, — чтобы позлить этих господ. Их поэзию я назову поэзией «лазаретной» и противопоставлю ей поэзию истинно тиртейскую, которая не только воспевает сражения, но дарит человека мужеством для жизненных битв.
Я был полностью согласен с Гёте.
В экипаже мое внимание привлекла камышовая кошелка с двумя ручками, стоявшая у нас в ногах.
— Я привез ее из Мариенбада, — заметил Гёте, — где плетут такие кошелки любого размера, и так к ней привык, что без нее ни в одну поездку не пускаюсь. Вот посмотрите: пустая она складывается и занимает очень мало места, а полная растягивается во все стороны и вмещает больше, чем можно предположить. Она мягкая, гибкая и при этом до того крепкая и прочная, что в ней можно возить любые тяжести.
— Она очень живописна и даже чем-то напоминает античные изделия.
— Совершенно верно, — подтвердил Гёте, — так оно и есть. Сходство же здесь заключается не только в предельно разумной целесообразности, но и в изящнейшей простоте формы, так что смело можно сказать — это изделие достигает высшей точки завершенности. Всего больше кошелка мне пригождалась во время моих минералогических экскурсий в Богемских горах. Сейчас в ней наш завтрак. Будь у меня с собой молоток, я бы и сегодня нет-нет и отбил бы кусочек, чтобы привезти ее домой полную камней.
Мы уже добрались до вершины, и нам открылся широкий вид на холмы, за которыми лежит Берка. Чуть левее простиралась долина, тянущаяся до самого Хетшбурга, где, по другую сторону Ильма, высилась гора, сейчас обращенная к нам теневой стороною и казавшаяся синей и тумаке, поднявшемся над рекою. Но когда я взглянул на нее в подзорную трубу, синева заметно поблекла. Я сказал об этом Гёте:
— Вот пример того, какую роль, даже при чисто объективном цвете, играет субъект. Слабое зрение усиливает муть, острое же разгоняет ее, или, по крайней мере, проясняет.
— Вы правильно это заметили, — сказал Гёте, — если смотреть в хорошую подзорную трубу, исчезает синева даже самых отдаленных гор. Уже Виланд хорошо это знал и часто говаривал: «Людей, конечно, можно было бы развлекать, если бы они были способны развлекаться».
Веселый смысл этих слов рассмешил нас. Тем временем мы съехали в небольшую долину, где дорога шла через крытый мост над сухим сейчас руслом, прорытым дождевой водой, что устремлялась к Хетшбургу. Дорожные рабочие укладывали по обеим сторонам моста глыбы, вырубленные из красного песчаника, которые привлекли к себе внимание Гёте. Чуть подальше, там, где за мостом дорога начинает подниматься на холм, отдаляющий путника от Берки, Гёте велел кучеру остановиться.
— Давайте выйдем из экипажа, — сказал он, — и перекусим на свежем воздухе.
Выйдя, мы осмотрелись кругом. Слуга расстелил салфетку на четырехугольной куче камней, частенько складываемых на обочине шоссе, и принес камышовую кошелку, из нее он извлек свежие булочки, жареных куропаток и соленые огурцы. Гёте разрезал куропатку и половину протянул мне. Я ел стоя, вернее, на ходу. Гёте присел на камнях. Как бы холодные камни, на которых еще не обсохла ночная роса, не повредили ему, подумал я и тут же высказал свои опасения, но Гёте заверил меня, что это пустое. Я успокоился, сочтя его слова доказательством того, каким сильным он себя ощущает. Между тем слуга достал из экипажа еще и бутылку вина и налил нам.
— Наш друг Шютце, — сказал Гёте, — поступает правильно, всякую неделю выезжая за город, давайте-ка последуем его примеру, и если такая погода еще продержится, постараемся, чтобы эта прогулка не была последней.
Как же я обрадовался его словам!
Мне суждено было прожить с Гёте удивительно счастливый день сначала в Берке, потом в Тонндорфе. Он был на редкость сообщителен и неистощим в остроумных речах. И о второй части «Фауста», над которой он начал серьезно работать, Гёте высказал много мыслей, отчего я тем более сожалею, что записал в свой дневник лишь это вступление.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1828
Едва мы сели за стол, как слуга доложил о господине Зейделе с тирольцами. Певцов провели в садовый павильон, откуда им все было видно через открытые двери, пенье же приятно доносилось с некоторого расстояния. Господин Зейдель сел с нами за стол. Переливчатые песни веселых тирольцев пришлись по душе нам, молодым людям. Фрейлейн Ульрике и мне всего больше понравились «Букет» и «Ты, ты в сердце у меня», мы даже попросили оставить нам текст этой песни. Но Гёте отнюдь не был в таком восторге. «Ты спроси у воробья, хороши ли вишни», — произнес он.