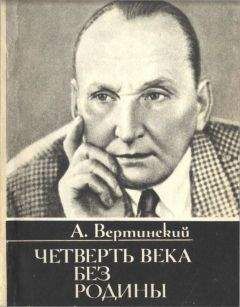Александр Вертинский - Дорогой длинною...
Женщины, хотя бы раз в жизни попробовавшие себя в фильме, пусть даже в самой крошечной роли, уже ни о чем другом говорить не могут и думают только о том, как обратить внимание на себя и свою внешность. Не удивляйтесь, если вы встретите совершенно незнакомую вам женщину, которая вдруг укоризненно говорит вам, грозя пальцем:
— Ай-ай-ай! Нехорошо не узнавать знакомых!
— Простите!.. — удивлённо бормочете вы. — Я не могу вас припомнить!
— Ах вот как? Не можете припомнить?.. А ещё ухаживали. Цветы посылали! — издеваясь, продолжает она.
Истязание это заканчивается тем, что дама, наконец, называет фамилию женщины, которая действительно когда‑то нравилась вам и с которой вы были хорошо знакомы. Но… но ведь это же не она! Вы вглядываетесь в её лицо и с трудом начинаете отыскивать в нем когда‑то знакомые черты. Постепенно вы соображаете, в чем дело. Дело в том, что она сделала себе пластическую операцию для кино, чтобы быть «ещё красивее». Она спилила горбинку носа и укоротила его, подрезала мочки ушей, вырвала ряд совершенно здоровых, но чуть-чуть неправильных зубов и вставила вместо них новые, большие и блестящие, вшила себе в веки длинные и чёрные ресницы, не говоря уже о том, что подрезала грудь, чтобы округлить её форму. Конечно, вы можете смотреть на неё целый год и все равно никогда не догадаетесь, что эта молодая особа, напоминающая восковую куклу из парикмахерской витрины, и есть ваша знакомая, какая‑нибудь Людочка или Олечка, которую вы знали чудесной и хорошенькой всего два-три года тому назад где‑нибудь в Берлине или Париже. Но, увы, это она. Каких только жертв не приносится на алтарь искусства! А самое обидное то, что это проклятое искусство даже не ценит этих жертв. До операции Олечку эту приглашали иногда знакомые режиссёры на небольшие рольки и даже обещали выдвинуть, а теперь, как назло, никто не приглашает!
Я никогда не забуду одной маленькой пятилетней девочки, которая, увидев пришедшую в гости только что сделавшую себе операцию носа мамину подругу, бросилась к матери со слезами и закричала:
— Мама, у тёти Кати нос умер!
Мать её сначала успокоила, а потом строго сказала, что о покойниках нельзя напоминать родственникам, потому что это бестактно!
Во время моего пребывания в Нью-Йорке состоялся знаменитый матч бокса между немецким боксёром Шмелингом и американским чемпионом Максом Беером. Вся Америка, затаив дыхание, следила за этим состязанием. Ставки на одного и другого доходили до десятков миллионов. На время этот матч затмил все остальные события, и газеты ни о чем больше не писали. Немцы волновались невероятно, на пропаганду своего фаворита они тратили большие деньги. Страсти разгорались с каждым днём и часом. В день матча, собравшего несметную толпу и миллионы в кассе, на улицах были поставлены громкоговорители, оповещавшие толпу о каждом движении состязавшихся. Шмелинг долго готовился к этому матчу, и готовился по-немецки серьёзно и тщательно, изучая своего противника в течение долгого времени. Говорят, что он скупил все фильмы, снятые во время матчей Беера с другими боксёрами, и по этим фильмам изучал его манеру, его стиль, его преимущества и слабости, высчитывая и взвешивая силу его ударов. Мне довелось попасть на этот матч, заплатив за билет пятьдесят долларов. Я не любитель бокса, меня интересовал не столько сам матч, сколько то, как реагировала на него толпа. Такого бешеного азарта, такой ярости, такого рёва я никогда в своей жизни не слышал. Было страшно сидеть на этом огромном, залитом светом стадионе.
Победил Шмелинг. Немцы торжествовали. Американцы уходили, скрежеща зубами от ярости. Женщины плакали. Я взглянул в лицо Шмелинга: оно было синее и опухшее, как лицо утопленника. Газеты писали о народном торжестве в Германии, о том, что немцы не отходили от радио всю ночь. Помещали интервью с его женой — киноактрисой Ани Ондра. Гитлер прислал ему поздравительную телеграмму. Триумф был полный.
Приблизительно месяца через два произошло второе событие, взволновавшее всю Америку и снова поставившее в центр общественного внимания немцев.
Это был процесс Кауфмана — убийцы ребёнка Линдберга. Убийца долгое время был неуловим, и, наконец, в 1935 году его поймали и судили.
Преступник защищался с невероятным упорством, лучшие адвокаты Америки стояли за его спиной, щедро оплачиваемые кем‑то. Огромные деньги были брошены на то, чтобы добиться его оправдания или хотя бы как‑нибудь преуменьшить впечатление от этого процесса. Но улики были неопровержимы, в радиоприёмнике Кауфмана нашли все деньги, полученные им в виде выкупа за ребёнка от несчастного отца: номера их были заранее записаны. Правосудие восторжествовало. Кауфмана казнили. Поздравительной телеграммы фюрера на этот раз не последовало.
Из Нью-Йорка я уехал в Сан-Франциско. У меня был ангажемент на ряд концертов в Калифорнии. По приезде на вокзал прямо с поезда мы сели в «ферри-бот» — нечто вроде большого парома, который и перевёз нас на ту сторону залива, в город. На пароме приехали журналисты и фотографы. Опять я должен был сообщать свои впечатления об Америке, без которых не обходится ни одно интервью. На этот раз фотографы не так спешили и не хватали меня за лицо, поворачивая в сторону, нужную для снимка… Среди журналистов были сотрудники русских газет. В огромном отеле «Сан-Франсис» я беседовал с ними в холле, отвечая на ряд вопросов, ничего общего с искусством не имеющих, но тем не менее интересующих любознательных американцев.
Например, какой город лучше — Нью-Йорк или Париж?
Какую киноактрису я люблю больше всего на свете?
Волнуюсь ли я перед выходом на сцену?
Сколько любовных писем я получаю в день?
Все эти вопросы мне быстро надоели, и я сбежал от корреспондентов в свой номер, оставив им на растерзание своего менеджера.
Через несколько дней был мой первый концерт. У меня было свободное время, и я решил, по совету друзей, осмотреть город.
Сам по себе Сан-Франциско ничего интересного не представляет — все города Америки похожи один на другой. Расположен город так, что открыт всем четырём ветрам океана, поэтому он обдувается со всех сторон. Даже летом там бывает холодно. Как и во всех городах Америки, кроме магазинов и кино, в нем ничего нет. Поэтому жить там довольно скучно. Зато окрестности тонут в зелени. Много деревьев и цветов, и все это окружено белыми и жёлтыми виллами типа испанских домиков средневекового стиля, сплошь увитых жёлтыми, белыми, красными розами и причудливыми фонариками из разноцветных стёкол.
Русская колония там очень большая, почти такая же, как в Нью-Йорке, если не больше. Все служат, все работают на фабриках, в магазинах, в офисах. Работа скучная. Состоятельных людей почти нет.