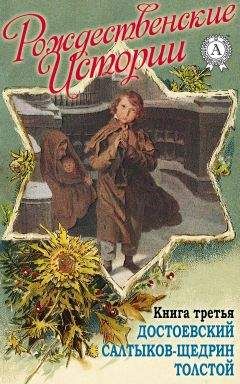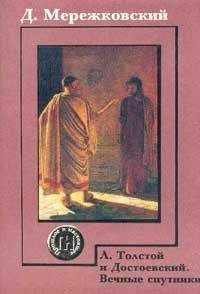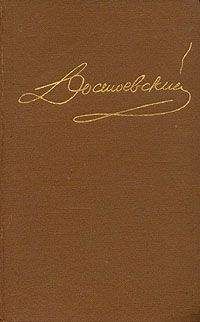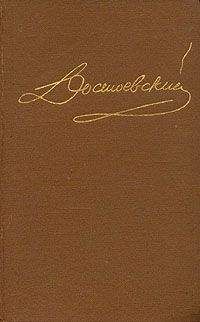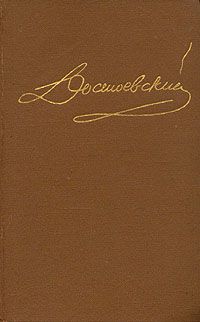Толстой и Достоевский. Братья по совести (СИ) - Ремизов Виталий Борисович
В одно из последних свиданий я высказал ему, что очень удивляюсь и радуюсь его деятельности. В самом деле он один равнялся (но влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком, среди литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за соблазн и безумие. Зрелище было такое, что я изумлялся, несмотря на все свое охлаждение к литературе.
Но кажется именно, эта деятельность сгубила его. Ему показался очень сладок восторг, который раздавался при каждом его появлении, и в последнее время не проходило недели, чтобы он не являлся перед публикою. Он затмил Тургенева и наконец сам затмился. Но ему нужен был успех, потому что он был проповедник, публицист еще больше, чем художник.
Похороны были прекрасные; я внимательно смотрел и расспрашивал — почти ничего не было напускного, заказного, формального. Из учебных заведений было столько венков, что казалось, их принесли по общему приказу; а между тем все это делалось по собственному желанию.
Бедная жена не может утешаться, и мне ужасно грустно было, что я не сумел ей ничего сказать. «Если б еще у меня была горячая вера…» — сказала она.
Теперь мне задали трудную задачу, вынудили, взяли слово, что я скажу что-нибудь о Достоевском в Сл. Комитете (Страхов произнес речь о Достоевском на заседании Славянского комитета Славянского Благотворительного Общества 14 февраля 1881 г., заключив ее чтением отрывка из письма Толстого от 26 сентября 1880 г. к нему. — В. Р.). По счастию мне пришли кой-какие мысли, и я постараюсь попроще и пояснее отбыть свой долг перед живыми и перед мертвым. Прошу у Вас позволения сослаться на Ваше письмо, где Вы говорите о Мертвом Доме. Я стал перечитывать эту книгу и удивился ее простоте и искренности, которой прежде не умел ценить.
Простите, дорогой Лев Николаевич: не забывайте, не покидайте меня. Ваш душевно Н. Страхов» (ПС П. Т. 2. С. 591–592).

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. Фотография С. С. Абамелека-Лазарева
«Получил сейчас ваше письмо, дорогой Николай Николаич, и спешу вам ответить. Разумеется, ссылайтесь на мое письмо.
Как бы я желал уметь сказать все, что́ я чувствую о Достоевском. Вы, описывая свое чувство, выразили часть моего. Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек. Я был литератор, и литераторы все тщеславны, завистливы, я по крайней мере такой литератор. И никогда мне в голову не приходило меряться с ним — никогда. Все, что́ он делал (хорошее, настоящее, что́ он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше. Искусство вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца только радость. — Я его так и считал своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг за обедом — я один обедал, опоздал — читаю, умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу.
На днях, до его смерти, я прочел Униженные и оскорбленные (роман Ф. М. Достоевского. — В. Р.) и умилялся.
В похоронах я чутьем знал, что как ни обосрали все это газеты, было настоящее чувство. — […] От всей души обнимаю и люблю вас. Ваш Л. Толстой» (63, 42–43)».
«Помню, когда получил ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, как мне удивительно показалось, что вы так далеко заглядываете, — 12 Мая. Показалось особенно странно, потому что в этот же день я узнал о смерти Достоевского (Ф. М. Достоевский умер 28 января 1881 г. — В. Р.). А вот и 12 мая, и мы живы. Пожалуйста, простите меня за мое молчание и не накажите меня и жену тем, чтобы отменить ваш приезд к нам. — Наш поклон Марье Петровне. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Я очень заработался и очень постарел нынешний год; но не виноват в перемене моей привязанности к вам. Ваш Л. Толстой» (63, 63).
Николай Страхов состоял в дружбе и с Львом Толстым. Сохранилась огромная переписка между ними, едва уместившаяся в объемном двухтомнике. Критик часто бывал у Толстого в Ясной Поляне, путешествовал с ним в Оптину пустынь. Толстой, будучи в 1878 г. в Петербурге, основное свое время проводил со Страховым, который, как известно, воспрепятствовал встрече двух великих писателей во время их присутствия на лекции Вл. С. Соловьева.
Толстой крайне сдержанно воспринял обличительные письма Страхова, адресованные ему. Полагаю, что постепенное угасание дружбы с человеком, с которым Толстого связывали тридцатилетние отношения, во многом было обусловлено неприязненностью писателя к умышленно пасквильным оценкам Николая Страхова в адрес Достоевского.
Толстой стал своеобразным камертоном для выявления сути конфликта между Страховым и Достоевским.

Н. Н. Страхов. Фотография 1880-х гг.
«Напишу Вам, бесценный Лев Николаевич, небольшое письмо, хотя тема у меня богатейшая. Но и нездоровится, и очень долго бы было вполне развить эту тему. Вы верно уже получили теперь Биографию Достоевского — прошу Вашего внимания и снисхождения — скажите, как Вы ее находите. Я по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство. Пособите мне найти от него выход. Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей, и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек!». Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека.
Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случилось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям и он хвалился ими. Висковатов (Павел Александрович, впоследствии профессор Юрьевского университета, биограф и издатель Лермонтова. — В. Р.) стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что, при животном сладострастии, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герои Записок из Подполья, Свидригайлов в Преступлении и наказании и Ставрогин в Бесах; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Д. здесь ее читал многим.