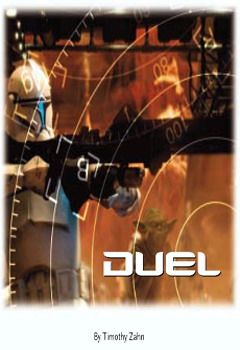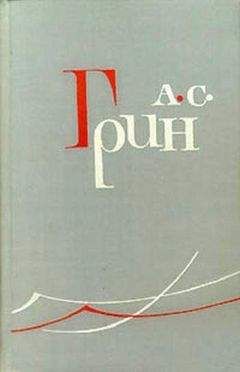Тимоти Колтон - Ельцин
Неотчетливость этих границ являлась лишь частью проблемы. Москва увлеченно имитировала иностранные модели, эта тенденция просачивалась за рамки политики. Иногда это проявлялось в мелочах — например, после того, как в феврале 1992 года, Ельцин увидел в Кемп-Дэвиде Джорджа Буша разъезжающим на электромобиле для гольфа, электромобили были приобретены и для резиденции «Барвиха-4». Но этим дело не ограничивалось. Склонность к подражанию и самообольщение подталкивали Ельцина и его соратников к институциональным нововведениям (президентство и вице-президентство, конституционный суд и т. п.), которые зачастую были недостаточно разработанными и не соответствовали моменту и окружающей обстановке. Как саркастически заметил сам Ельцин в «Записках президента», «возникали красивые структуры, красивые названия, за которыми ничего не стояло»[967]. Все это приводило к искажениям самой инфраструктуры государства. И тому появлялись все новые доказательства: удвоилось количество преступлений с применением насилия, — по этому показателю Россия приблизилась к таким странам, как Колумбия, Ямайка и Свазиленд; махровым цветом расцвела коррупция, особенно после приватизации; границы стали проницаемыми; граждане откровенно уклонялись от уплаты налогов, что приводило к росту бюджетного дефицита; была подкошена система социальной защиты; люди перестали доверять обесценившемуся в результате инфляции рублю и перешли на доллары, денежные суррогаты и бартер[968]. Армия — главная жемчужина в короне Русского государства со времен Ивана Грозного — сократилась с 2,75 млн человек в 1992 году до 1 млн в 1999 году; после вывода войск из Восточной Европы офицеры и рядовые ютились в палатках; денежное содержание многих членов офицерского корпуса систематически задерживалось[969]. А коммунистической партии, иерархический аппарат и массовое членство в которой поддерживали Советское государство на плаву, больше не было.
Внутри аппарата госуправления Ельцин столкнулся с ослаблением дисциплины и ответственности, свидетельством чему может служить история о двух министрах-реформаторах из первого кабинета, рассказанная им самим. Эдуард Днепров, министр образования, занявший свой пост в 1990 году, хотел изменить школьную программу и сумел что-то сделать, «благодаря тому, что успел проработать при „старом режиме“, когда начальства еще слушались». Андрей Воробьев стал министром здравоохранения в конце 1991 года, и к его аргументам в пользу частных клиник и врачей никто не прислушался: «У Воробьева сразу начался полный развал в его системе. Никто ничего не понимал и не хотел делать по одной простой причине — перестал работать аппарат министерства»[970]. Для бунтаря Ельцина главным было оставаться непреклонным «начальником для начальников». Но теперь послушание начальников всех уровней оказалось под вопросом.
Испытываемые Ельциным затруднения проявлялись и на международной арене. Правительства стран по всей Евразии столкнулись с невероятно сложными проблемами, но в четырнадцати из пятнадцати постсоветских столиц сквозь мрак трудностей пробивался луч радости — радости освобождения от иностранного, то есть российского — владычества; этот чудесный эликсир нес объединяющее воздействие и обеспечил реформаторам в этих странах спокойный стартовый период. В Москве такой радости не ощущалось. Украинцы, казахи, грузины получили государственность и вошли в мировое сообщество. Ельцин же и россияне получили меньше, чем имели раньше, — всего лишь уменьшившееся государство, судорожно пытающееся сохранить влияние в регионе, не говоря уже о месте СССР в международной политике. Трое из четверых российских граждан в 1992 году принимали крах Советского Союза как свершившийся факт; двое из троих об этом сожалели[971]. Когда разрыв стал окончательным, это только ухудшило политический имидж Ельцина. «Я был убежден, — пишет он, — что России нужно избавиться от своей имперской миссии». Новому государству, коим стала Россия, «нужна и более сильная, жесткая… политика, чтобы окончательно не потерять свое значение, свой авторитет». Но утвердить авторитет в постсоветском пространстве не удавалось. Ельцин сам оплакивал рану, нанесенную низложенной правящей нации прямо в сердце: «Мы [россияне] вроде как стыдимся того, что такие большие и бестолковые, не знаем, куда себя деть. Нас мучает какое-то ощущение пустоты»[972]. Если окончание холодной войны и крах Советского Союза сделали США единственной сверхдержавой, то Россия оказалась единственной бывшей сверхдержавой. Одна страна получила комплекс превосходства, другая страдала от комплекса неполноценности, лекарства от которого не было.
Ельцин не преувеличивал, когда говорил, что над Россией и бывшим СССР в первой половине 1990-х годов «висела тень смуты, гражданской войны»[973]. Горбачева справедливо продолжают хвалить за самоотречение и предотвращение кровопролития. Ельцин заслуживает большего признания, но не всегда его получает. Скорый распад страны после беловежских договоренностей был во много раз предпочтительнее попыток спасти единое государство путем насилия. В России Ельцин сумел сдержать реваншизм, шовинизм и ностальгию по Советскому Союзу. В «ближнем зарубежье» ему удалось прийти к пониманию с большинством бывших советских республик: он вернул на родину располагавшиеся на их территории войска, не предпринимал попытки использовать русское население как пятую колонну и поддержал экономику этих стран, поставляя им нефть и газ по сниженным ценам. Самыми взрывоопасными вопросами в регионе были вопросы о территориях, расположенных за пределами России и заселенных преимущественно русскими и русскоязычными. В этот список попали северные районы Казахстана, Приднестровье и на Украине Донбасс, Крым и Одесса. Ельцин никогда не предъявлял претензий на эти территории. Миротворческая деятельность российских военных в трех непрочных государствах (Молдове, Грузии и Таджикистане) граничила с вмешательством во внутренние дела и покровительством промосковски настроенным регионам, но это было скорее исключение, лишь подтверждавшее правило.
Вспомним о Югославии — еще одной коммунистической многонациональной федерации. События там показались бы школьным пикником в сравнении с пожаром, который мог разгореться в центре Евразии, если бы русские взяли на себя роль сербских националистов и ксенофобов, а Ельцин стал вторым Слободаном Милошевичем. Русских было в пятнадцать раз больше, чем сербов, а война русских против нерусских в бывшем СССР или всех против всех вспыхнула бы на территории, превышающей по площади Южную Америку, где находились миллионы солдат, тысячи единиц атомного оружия (значительная часть которой изначально находилась не под контролем Москвы), и тысячи тонн ядерных материалов[974]. Министр иностранных дел России Андрей Козырев, который занимал этот пост с 1990 по 1996 год, хорошо знал обстановку на Балканах и не раз обсуждал с Ельциным возможность реализации в России югославского сценария. Похожие разговоры вел с президентом и Гайдар, который в детстве жил в Белграде и окончил там среднюю школу[975]. На память для сравнения приходили также разделение стран и гражданские войны на Индийском полуострове, в Северной Африке и Индокитае. Историк Стивен Коткин без преувеличения пишет о том, чего смог избежать Ельцин: «Деколонизация заморских территорий Западной Европы была жестокой и кровавой. Распад советской империи… мог стать гораздо более кровопролитным и даже привести к концу света», который наступил бы в результате термоядерного всесожжения[976].
К дипломатическим переговорам с мировыми державами выходец из Свердловска поначалу оказался удручающе не подготовлен. Козырев сообщил главам США и западноевропейских стран, что отношения с Ельциным нужно перевести на личный уровень и обращаться к его лучшим инстинктам[977]. Ельцин пристрастился называть иностранных лидеров по имени, часто добавляя «мой друг» (мой друг Джордж, мой друг Билл, мой друг Гельмут), что было не так-то легко для флегматичного русского мужчины. Дружба с послом США в России в 1991–1992 годах Робертом С. Страусом помогла Ельцину разобраться в отношениях с Соединенными Штатами[978]. Ельцин учился быстро. Во время своего первого официального визита в Вашингтон на совместном заседании американского конгресса 17 июня 1992 года он фразами Рональда Рейгана сказал, что Россия «сделала свой окончательный выбор в пользу цивилизованного образа жизни, здравого смысла и универсальных человеческих ценностей… Коммунизм не имеет человеческого лица. Свобода и коммунизм несовместимы». Упомянув о достигнутом между ним и Бушем соглашении о сокращении ядерных вооружений к 2000 году, Ельцин прямо сказал американцам, что в успехе его «большого скачка наружу» заинтересована не только Россия, но и Запад: «Сегодня свободу Америки защищают в России. Если реформы провалятся, это обойдется в сотни миллиардов»[979].