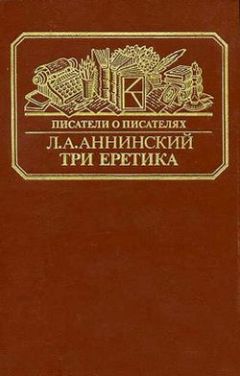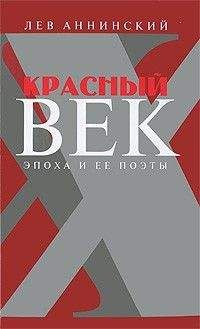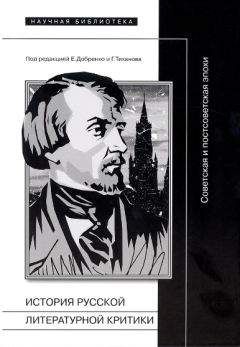Лев Аннинский - Три еретика
Теперь – низ таблицы. Здесь, «на дне», с индексом 8 – «Соборяне» Лескова и «Люди сороковых годов» Писемского. След несчастья, слом судьбы, срыв в «небытие»: вторая классика, бойкотом оттесненная с первых позиций.
Здесь, по идее, должен быть и Мельников.
Так вот: он, с двадцатью изданиями, отрывается от нижней черты и становится на седьмое место, опережая «Бесов» и приближаясь к «Братьям Карамазовым»!
Положим, «Бесы» – тоже случай особый; у этого романа та же «бойкотная» судьба: отдельно он практически не издавался, и держат его на плаву четырнадцать собраний Достоевского. Держат собрания и «Карамазовых» (ну, впрочем, и сами держатся ими), однако если собрания исключить (общий вес и авторитет Достоевского в русской культуре, конечно, несравнимо выше веса и авторитета Мельникова), так если сравнивать только количество отдельных изданий (то есть степень интереса не к писателю вообще, а именно к данному произведению), – то мельниковская дилогия достигает уровня «Братьев Карамазовых» и даже чуть опережает их: четырнадцать к двенадцати.
Иными словами: романы Мельникова-Печерского читаются наравне с первейшими шедеврами русской классики, и это происходит не столько вследствие его общей репутации, сколько благодаря только собственному потенциалу этих романов.
Сопоставление суммарных тиражей подтверждает картину.
Оговорюсь, правда, какие тиражи я учитываю. Во-первых, тиражи только отдельных изданий. Тиражи собраний в расчет брать не стоит – это показатель скорее «общего веса» классика, чем веса данного произведения. Во-вторых, тиражи изданий прошлого века, да и начала нашего, – как правило, не объявлялись. Так что если учитывать объявленные тиражи, то вычислится общее количество книг, выпущенных в послевоенное время, с малыми, иногда почти пренебрегаемыми на таком фоне добавками из двадцатых и тридцатых годов. Практически же вычисляется вся масса книг, находящихся сейчас в живом читательском обращении. «Мощность» слоя.
Вверху шкалы опять-таки «Анна Каренина», ушедшая за четырнадцать миллионов. Одиннадцать миллионов – «Война и мир». Семь миллионов – «Обрыв», четыре – «Былое и думы».
Внизу шкалы – практическое отсутствие «Бесов», ничтожный тираж «Людей сороковых годов» и треть миллиона экземпляров «Соборян», «спохваченные» уже в самые последние годы.
В середине, плотной группой: «Братья Карамазовы», затем, чуть отставая, – «Пошехонская старина» и – мельниковские романы.
Два с половиной миллиона экземпляров его книг держат имя Андрея Печерского в кругу практически читаемых классиков.
Я считаю, что это великое признание и счастливейшая судьба.
Так чем же держит это огромное, в две с половиной тысячи страниц, медлительное, наивное повествование современного читателя? Что нам до подробностей давно исчезнувщего бытия, до деталей жизни, канувшей на дно истории, до реалий давно нереального уже, невидимого града, ушедшего в «толщу вод»? Ведь не притча иносказательная предложена нам, а именно подробное бытоописание, внешне похожее то ли на путеводитель по затонувшему царству, то ли на загробный сон, где рельефная четкость подробностей еще и подчеркивает ирреальность происходящего. Что же приковывает современного читателя, для которого даже и язык Печерского иной раз стоит на грани понятности?
«На Казанскую в Манефиной обители матери и белицы часы отстояли и пошли в келарню за трапезу…»
И «матери» тут не те, и «часы» не те, что нам привычны. Положим, «обитель», «трапезу», а может, и «Казанскую» еще может знать или сообразить нынешний просвещенный читатель, хотя далеко не каждый, но за «келарней» и «белицами» придется нырять в словарь Даля либо в собственный словарь Печерского, предусмотрительно приложенный к роману. Так эта «непонятность» – не столько знак ученой специфики, сколько знак художественной игры. Печерский ставит в словах ударения, как бы не доверяя осведомленности своего читателя, как бы предлагая ему особые условия; он все время играет красками и смыслами, словно бы испытывая логику. «Молоденькие старочки» и «черные белицы» рядом с «добрыми молодцами» и «красными девицами» придают картине, по-видимому, олеографически благостной, оттенок если не шаржа, то неуловимой усмешки. «Мужская обитель не устояла… И… сделалась женскою», – смыслы играют, дразнят; из-под монашески смиренной объективности посверкивает вызов. Иногда в какой-нибудь невинной сносочке… ну, вот хотя бы о поваре, у которого училась стряпать чапуринская крестная мать: повара того похвалил «сам Рахманов»… Кто таков? Сносочка: «Известный московский любитель покушать, проевший несколько тысяч душ крестьян». Жало, обнаружившееся в этой фразе, мгновенно напоминает вам, что под широкой улыбкой поволжского летописца притаился обличитель, который еще недавно вместе со Щедриным нагонял страху на начальство… но что-то переменилось, и обличитель, убрав лезвие, мелким, мягким штришочком пишет бесконечную невозмутимую фреску.
Возникает странное ощущение сдвоенного штриха, сдвоенного зрения и даже сдвоенного мира. Ощущение морока и мороченья. С истовой поэтичностью автор развертывает очередной среднерусский пейзаж, с чертями, водяными и лешими, таящимися в глубине вадьи, или чарусы, или окна, он расстилает перед вами ковер простонародно опознаваемых трав: багун, звездоплавка, мозгуши, белоус, – а под строку, в сноску с профессорской аккуратностью выписывает латинские названия этих русских диковин, то ли подкрепляя былинную мощь ботанической эрудицией, то ли над всем этим посмеиваясь… Вплывая в лабиринты эпической поволжской атлантиды, вы чувствуете, что ее выстраивает перед вами сказитель, отнюдь не настолько простодушный, как он хочет это продемонстрировать.
Это наивность, знающая, что она наивность. Это старина, знающая, что она старина. Есть оттенок некоторого даже щегольства в переходах от ясного знания к туманному нащупыванию реальности. Есть оттенок экзотизма в самом звучании имен, составляющих в эпопее Печерского своеобразную узорную сеть. Имена старые, старорусские: Настасья, Прасковья, Евдокия, Петр, Алексей, Василий, но рядом – что-то на грани света и тьмы: Манефа… Флена… Филагрия… Даже общепонятные имена звучат с оттенком необычности, со старинным отзвуком либо с печатью местного колорита: не Марк, а Марко, не Потап, а Патап…
Вы попадаете в странный, старинный, внутри себя завершенный, старательно выстроенный мир, но смутное ощущение искусности, декоративности и нереальности этого мира парадоксально гасится у вас впечатлением его оптической непреложности, материальной, физической ощутимости. Так он написан: теплом поверхностей, скрипом деревянных лестниц, неподдельностью затейливой речи, запахами яств и снедей: можете пощупать, можете отведать, услышать, вдохнуть, рассмотреть… Искушенный, все и вся знающий рассказчик на ваших глазах прячет иронию и убирает острую усмешку: он предлагает вам условие художественной игры: наивность.