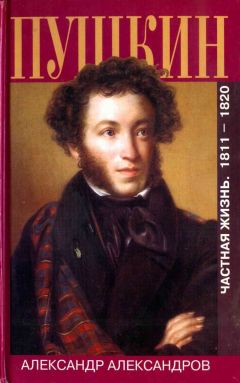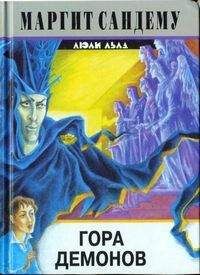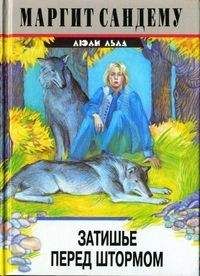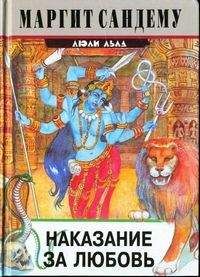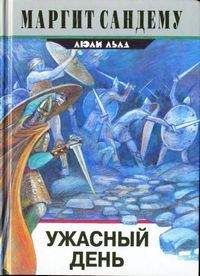Александр Александров - Пушкин. Частная жизнь. 1811—1820
— Вы это серьезно или шутите? — удивилась она.
— Вполне серьезно. Первый, потому что не знает грамоты, а пишет, как Гораций, а второй — потому что пишет сорок лет и не знает грамоты, пишет беспрестанно и своим бесславием будет знаменит среди потомков.
— Мне трудно понять, — ответила она, — как можно быть знаменитым своей бездарностью! «Суворов мне родня, и я стихи плету», — рассмеялась она. — Его забудут…
— Нет, ошибаетесь, — усмехнулся Батюшков, — забудут других, несравненно более талантливых. Но уже он сделал слишком много, чтобы его не забыли. Никто не потратил столько сил, чтобы прославиться. Никто его не читает — он за свой счет издает и рассылает свои сочинения: литераторам, в академии, в университеты, в школы; в дороге раздаривает их станционным смотрителям, а кто из нас не скучал на станциях в ожидании лошадей. Он за свой счет переводит их на европейские языки и рассылает знаменитостям: Гёте, Ламартину… Он становится известен, славен, ведь дурная слава — та же слава. На него написали столько эпиграмм, сколько ни на одного поэта в мире. Пародии на него уже никто не отличает от его собственных стихов. И вы хотите, чтобы после этого его забыли? Пусть никто никогда не будет знать ни единой его строки, но все будут помнить его имя, ибо в анналах истории литературы российской оно будет постоянно повторяться рядом с другими именами. Он не сделал ни одного неверного шага, все его шаги были к славе, он даже женился на любимой племяннице великого Суворова, присоединив свое имя к имени, уже гремевшему на всю Европу. Помните, что сказала Екатерина Великая, когда ее внимание обратили на то, что она пожаловала Хвостова камер-юнкером без достаточных на то оснований. Екатерина ответила: «Если бы Суворов попросил, я сделала бы его и камер-фрейлиной!» В другой раз Суворов попросил, и сардинский король сделал Хвостова графом.
— Но, по-моему, он не дурной человек, — сказала Анна.
— Да, он добр, — согласился Батюшков.
Когда они возвращались, Крылов, совершенно обескровленный, падая головой на грудь, все же продолжал счет:
— Уже тридцать три бутылки, Дмитрий Иванович! Это ведь целое состояние!
И рядом уже сидел одноглазый циклоп Гнедич, с лицом, изрытым оспою, от которой у него и глаз вытек; с платочком, три раза обернутым вокруг шеи; тоже, как и Крылов, сотрудник Императорской Публичной библиотеки, и радостно кивал головкой:
— Тридцать три, ваше сиятельство! Позвольте заметить, тридцать три, ваше сиятельство! — Голос его был глуховат, будто простуженный.
— Не обеднею, хоть сто тридцать три, — успокоил их граф Хвостов. — Послушайте еще вот это! А там разом и пошлем за шампанским.
Гнедич раскланялся с Батюшковым и посмотрел на него и Анну подозрительно. С Аней, как и с дочерьми Олениных, Николай Иванович занимался русской словесностью, разучивал роли для домашнего театра. Ему тоже намекали про девушку на выданье, и столь частое присутствие Батюшкова его не радовало, хотя они и были давнишними близкими друзьями. Ведь он знал, что Батюшков влюблен в нее, и знал, что женщинам Пипенька нравится. Понимая, что у него серьезный соперник, Гнедич стал завиваться в последнее время и тщательно следовать моде. Теперь, разговаривая с девушкой, он всегда поворачивался к ней уцелевшим глазом, хотя эта сторона лица была сильнее изрыта оспой. Главное было отвратить от взора девушки красную, постоянно слезящуюся дыру, оставшуюся на месте вытекшего глаза.
Крылов достал часы из кармашка и вдруг засуетился:
— Обедать пора, обедать. У Олениных не принято опаздывать! А вот и колокол! Ай-яй-яй! Опоздали! Какой конфуз!
За опоздание к обеду Крылов мог и задушить кого угодно. Лишение обеда для него было нечто, по тяжести деяния подобное непреднамеренному убийству. Он должен был, как и всегда, войти в столовую первым, пропустив, скрепя сердце, только дам.
К обеду звонили в колокол шесть раз, ибо он неизменно был в шесть часов вечера. Уже со вторым ударом тучный Крылов довольно резво несся по аллее к дому, оставив Гнедича с Хвостовым далеко позади. Гнедич был человек искательный и имел до графа одно деликатное дело, для чего удерживал его возле себя. Батюшков усмехнулся и подумал, что друг его окончательно истаскал свое сердце у обер-секретарей и откупщиков.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,
С шестым ударом колокола Крылов оказался у дверей столовой и, скрепя сердце, пропустил вперед дам, после чего первым проследовал за ними. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе.
Крылов водрузил свое грузное тело на привычное место, рядом с хозяйкой. Слуга Емельян бережно подвязал ему салфетку под самый подбородок, а вторую разостлал на коленях.
Была уха с растегаями, которыми обносили всех, но перед Иваном Андреевичем поставили глубокою тарелку с горою растегаев. За обедом Крылов говорить не любил, но слушал других с удовольствием, поэтому хозяин, Алексей Николаевич Оленин, развлекал гостей рассказом о посещении известного антиквария Селакадзева, который жил в одном из переулков Семеновского полка, в неопрятной квартире, заваленной всяческим хламом, который он считал бесценным. На этот раз ездили к антикварию по просьбе Гаврилы Романовича Державина, который прослышал о новгородских рунах и хотел увидеть их.
Крылов внимательно слушал, а между тем покончил со своими растегаями и после третьей тарелки ухи обернулся к буфету. Емеля знал уж, что это значит, и быстро поднес ему большое общее блюдо, на котором оставался еще запас.
— Селакадзев принял нас в новом сюртуке, — рассказывал Оленин, — сидя на софе, посреди своих редкостей, с которых, он, видимо, по этому случаю смел пыль.
Крылов, поглощая растегай, бормотал себе под нос:
— Какова Егоровна! Не даром в Москве жила: ведь у нас здесь такого растегая никто не смастерит, — пришептывал он для Елисаветы Марковны, хозяйка в ответ ему улыбалась. — И ни одной косточки!