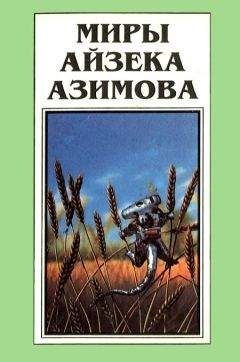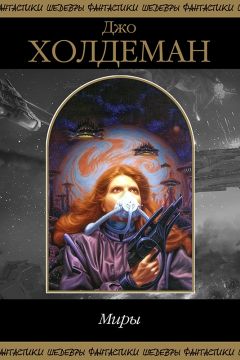Дмитрий Щеглов - Любовь и маска
— Какой ж это секрет, милочка, — вдруг забыв о прежней доходной профессии, возмущенно проговорила Раневская, — об этом знает вся страна!
После этого эскиза с широко популярным «стоматологом» я становился свидетелем еще нескольких чудесных миниатюр, но, понемногу взрослея и отдавая отчет в том, кого именно удалось мне застать в живых, поклялся никогда не писать, не упоминать ни словом про эти семейные фрагменты.
Надеюсь, это единственное не сдержанное мною слово.
Позднее, во Внуково, мне показали и прутовский участок с каким-то отстроенным замком, и музыкальный орешник имени «Фуфы» — самой Раневской уже девять лет как не было в живых.
Овраг, дубовая рощица, внуковские улицы, взятые в сплошные скобки заборов, едва различимые с дороги мемориальные домики — все, или почти все сохранилось, но какой-то ущерб чувствовался в этой в общем чудесной местности уже тогда. Это был ущерб времени, старости, прошедшей и невозвратной жизни. Современные дополнения угрюмых крепостей только усиливали это ощущение. Почти все из тех, с кого начинался этот поселок, умерли. Времени свойственно разделять. Движение от общего к частному сказывалось тут с топографической наглядностью: единые некогда гектары стараниями сородичей делились на суверенные сотки. За общими заборами шла напряженная дипломатическая работа, налаживание или разрыв связей — высылались ноты или приветствия, периоды холодной войны плавно сменялись потеплением геополитической ситуации в целом. Все было, как везде, с поправкой на прошлые масштабы и чужие заслуги.
А потом нам показали место возле забора, где одно время находили Любочкины записки, открытки, письма и даже один из ее карандашных портретов.
Все это, размокая, валялось в траве — как отработанные черновики, как отслужившая рухлядь, как самого последнего разбора ветошь, не поместившаяся в отдаленнейшем углу давно прогнившего сарая.
Что все это значило? Всего-навсего то, что пришли другие люди, которым как-то очень по-своему надо было устраивать свою жизнь, в контуры которой Любочка не помещалась и поместиться не могла.
«Я храню каждую его записочку. А он, наверное, нет».
В этом месте текста мне очень не хватает ее голоса, ее внятной отчетливой фразы, традиционного обращения:
«Милый Гриша…» Или «Дорогой Григорий Васильевич…»
Как выяснилось, его хватило ненадолго. По крайней мере в том виде, в каком она его знала.
Она была еще жива, когда однажды, возвращаясь от нее из больницы, он предложил подвезти одну из театральных знакомых Орловой, пришедшую ее навестить.
«Только, если позволите, сначала заедем во Внуково, — попросил Григорий Васильевич, — ко мне с минуты на минуту должен явиться редактор».
Путешествие было приятным. Во Внукове Александров предложил посмотреть дачу, никуда не торопясь, провел по участку, потом сварил кофе. Пунктуальный редактор все не являлся, не сообщая при этом о причинах своего несомненно уважительного отсутствия, Григорий Васильевич что-то рассказывал, вспоминал, напрочь забыв о той единственной причине, по которой гостья оказалась в его жилище.
После смерти Орловой он недолго оставался в нем в одиночестве. Мы уже достаточно поговорили о бессмысленности послесловий в завершенных историях — разочаровании и скуке. Достаточно сказать, что женщина, взявшая под опеку (в самом буквальном смысле) его немощь, представляла собой тип, строго — я бы даже сказал идеально — противоположный Любочкиному.
Это выражаясь осторожно. На самом деле при жизни Орловой она не могла переступить порог того дома, в котором стада потом хозяйкой. Звали ее Галина (фрикативное «г» в выговоре способно дать представление об этом бронебойном характере). Будучи женой сына Александрова — Дугласа, она столь ярко проявляла этот характер, что с определенного времени не могла появляться ни во Внуково, ни на Бронной. Это было Любочкино условие мужу. Она и не появлялась. А спустя год после смерти Орловой, в один из своих приездов к отцу, Дуглас упал на внуковской тропинке к дому. Эта скоропостижная смерть (разрыв сердца) подвигла решительную вдову к стремительным действиям. Вскоре она стала женой рассыпавшегося на глазах Александрова, вступив во все полагающиеся ей по статусу права.
Нет, она ухаживала за стариком, как могла, конечно, ухаживала. Говорили, он был доволен.
Скажем так: старость Григория Васильевича была устроена в той же мере, в какой и жизнь тех персонажей, которые сумели этой старостью воспользоваться.
Только вдруг выяснилось, что Любочкины записки — встревоженные и пустяковые, ее пришпоривание, отчаянная борьба за тот выдуманный ею образ золотоволосого небожителя, не способного сосредоточиться на приготовлении яичницы с помидорами, — и были той формой, что поддерживала Гришин организм (не душу — оставим ее в покое) в пристойном состоянии, становым хребтом, придававшим пейзажу его жизни вполне живописный, экскурсионный вид.
Когда он рухнул, начались осыпи.
Все просело, посыпалось — осанка, речь, память, картинки прошлого, тоска об ушедшем, о ней, и, сидя в едкой пыли, поднятой этим разрушением, он тихо-тихо, по словцу надиктовывал воспоминания для Политиздата:
Новое солнце взошло над Россией великая октябрьская социалистическая революция ознаменовала начало коренного изменения всех сторон жизни нашей родины это коснулось и духовной области культуры в том числе и искусства и большевицкая партия не мешкая пустила по новым путям дело просвещения народа развернула невиданное беспрецедентное культурное строительство выдвинула задачу сделать образование всеобщим и все накопленные веками богатства культуры, которые необходимо иметь в виду когда придет редактор, чтобы вычистить весь этот вздор и добавить свой — еще больший.
Редактор действительно приходил.
Воспоминания опубликовали. У него там даже о Любочке не нашлось ни одного живого слова. Жена, что ли, запрещала или просто все уже было безразлично — какая разница.
А потом его разморозили. Словно какая-то холодильная установка, поддерживавшая температуру его сознания в любочкином режиме, отключилась — и все разъехалось, вывалилось, потекло. Через два года он уже никого не узнавал.
— А где же Вася? — спросил он вскоре после смерти своего сына.
Ему сообщили, что Вася (Дуглас) отправился в магазин за хлебом.
Этим ответом он удовлетворился до конца своих дней.
Когда я пытаюсь представить себе бесконечность, то вижу фигуру человека, все топающего в какое-то сельпо под безнадежно темными небесами — деловито, размеренно, чуть сурово.