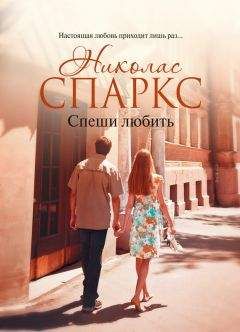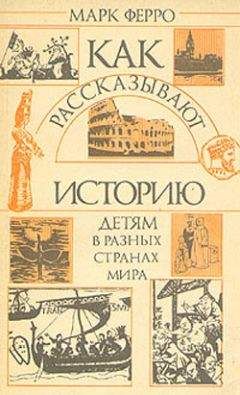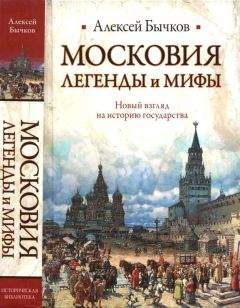Владимир Львов - Альберт Эйнштейн
Отирая пот с изборожденного морщинами лба («в этом телевидении, оказывается, жарища хуже, чем в кинематографе!»), он покинул студию, пожав руку растерянному мэнеджеру и всем работникам передачи.
Злобный вой маккартистов был ответом на эту речь.
Взобравшийся опять на парламентскую трибуну Джон Рэнкин торжествующе кричал: «Вот видите! Я предупреждал! Теперь доказано, что этот старый шарлатан (old faker), именующий себя ученым, некто Эйнштейн, является сторонником коммунистического фронта?!»
«Возможно, что я являюсь старым шарлатаном, — сказал Эйнштейн, когда ему сообщили о выступлении Рэнкина. — Но если так, то я попал в хорошую компанию. Ибо главными шарлатанами, конечно, являются те, кто, поставив «Статую Свободы» у входа в нью-йоркский порт, считает, что этот символ имеет хоть малейшее отношение к порядкам в нынешней Америке!»
5
Вспыхнула корейская война, спровоцированная торговцами кровью из «китайского лобби», заклятыми врагами народов Азии. В дни военного разгрома американских войск, уцепившихся за полоску земли у Пусана, Эйнштейн с ужасом видел газетные заголовки, кричавшие огромными буквами: «Бросайте ее!» Не было сомнения, что именно имели в виду авторы газетных заголовков. Надвигалась угроза нового чудовищного преступления, угроза новой Хиросимы. В эти именно месяцы на другом конце евразийского континента, в итальянском городе Лукка, состоялся съезд ученых Италии. Через Энрико Ферми устроители съезда обратились к Эйнштейну с просьбой написать несколько слов. Он исполнил эту просьбу, и 3 октября бывший итальянский премьер профессор Саверио Нитти огласил послание с трибуны съезда. «Люди науки, — говорилось здесь, — встревожены тем, что плоды их трудов захвачены сегодня ничтожным меньшинством, сосредоточившим в своих руках сначала экономическую, а потом и политическую власть…»
Это не было намеком, нет, это было прямым указанием на источник международной агрессии — крупные капиталистические монополии, поставившие судьбу мира на грань чудовищной катастрофы!
9 мая 1953 года школьный учитель по имени Вильям Фрауенгласс обратился с письмом к Альберту Эйнштейну, В этом письме Фрауенгласс сообщал, что был вызван неделю тому назад в маккартистское судилище, но отказался давать показания о своих политических связях. После этого его уволили. Фрауенгласс просил совета, как ему поступать дальше.
Ответ последовал быстро.
Альберт Эйнштейн — Вильяму Фрауенглассу
«Дорогой мистер Фрауенгласс! Проблема, с которой столкнулась интеллигенция в этой стране, очень серьезна. Реакционные политики сеют среди народа подозрение к людям умственного труда. Они, эти политики, преуспевают в подавлении свободы преподавания и лишают работы непокорных, обрекая их на голод…»
«…Что должны делать работники интеллигентного труда перед лицом этого зла? Говоря откровенно, я вижу только один путь — путь несотрудничества… Каждый, кто будет вызван в комиссию, должен быть готовым к тюрьме и нищете, то есть, коротко говоря, к пожертвованию своим личным благополучием в интересах всей страны».
«Постыдным было бы подчинение этой инквизиции».
«Если достаточное число людей будет готово к этому важному шагу, он увенчается успехом. Если нет, тогда интеллигенция этой страны не заслуживает ничего лучшего, чем рабство.
Искренне Ваш А Эйнштейн. Принстон, 16 мая 1953».
Элен Дюкас положила перед ним на стол газетный лист, где синим карандашом были обведены несколько петитных строк, извещавших о предстоящей смерти Розенбергов. Он позвал Элен, и та запомнила его искаженное гневом и страданием лицо. Вспышка длилась недолго. Он подписал телеграмму президенту: «Совесть моя заставляет меня просить Вас отменить смертный приговор», и долго сидел потом в кресле, сгорбившись, в, состоянии глубокой слабости.
19 июня он узнал о смерти Джулиуса и Этель Розенбергов. «Трагедия 19 июня, без сомнения, сократила его жизнь на много лет…»
6
В эти летние дни 1953 года его видели часто в утренние часы в саду на скамейке и рядом с ним маленькую девочку. Девочка, соседская дочь, приходила с тетрадками, и они решали вместе математические задачи, с которыми гостья не могла справиться в школе. Беседа шла то в серьезном тоне, то прерывалась детским смехом, разносившимся далеко вокруг. Потом из школьной сумки извлекалась баночка с домашним компотом, и они съедали вместе это превосходное сладкое кушанье. На вопрос соседей, не беспокоят ли его эти ежедневные визиты, он отвечал, что, наоборот, решение даже простейших математических задач доставляет ему удовольствие и в разговоре с девочкой он черпает много интересного и поучительного для себя. Во всяком случае, многие ответы и суждения маленькой гостьи кажутся ему разумнее и практичнее, чем то, что он слышит и читает подчас. А что касается компота, то эта снедь всегда была его слабостью, еще с дней детства…
Математические беседы на скамейке в саду прервались однажды, когда он почувствовал себя плохо. Это была старая болезнь печени, и еще в декабре 1948 года ему была сделана операция, не давшая серьезного облегчения. Он сказал навестившему его тогда Инфельду, что готов к смерти и хотел бы лишь иметь запас времени в несколько часов, чтобы успеть привести в порядок свои бумаги. На вопрос о точной причине болезни он заметил шутливо, что врачи, без сомнения, установят эту причину при вскрытии… С тех пор прошло пять лет, и он не мог скрывать от себя, что сил становится все меньше, и внешний облик его менялся с пугающей быстротой, и художники и скульпторы (среди них знаменитый Яков Эпштейн), сличавшие и изучавшие его фотографические портреты, с тревогой отмечали сокрушительную работу времени.
Ничто, однако, не могло оставить его равнодушным при виде несправедливости, и когда он узнал, что некая промышленная фирма в Нью-Йорке с обычной бесцеремонностью собирается ограбить (в судебном, разумеется, порядке) немецкого изобретателя-иммигранта, решение было принято немедленно. Он явится в суд и скажет все, что знает. Элен Дюкас тщетно пыталась отговорить его от этого шага. Он решительно отверг ее доводы. Он знал изобретателя еще по Берлину и был знаком с его трудами. Разумеется, появление автора теории относительности в пропитанной запахами полицейского участка камере суда вызвало переполох среди репортеров. Представители слепой на оба глаза нью-йоркской Фемиды были поражены другим — ясностью и точностью аргументации, которую обрушил на их головы этот маленький хрупкий старик с нимбом изжелта-белых волос над сморщенным лбом. «Эйнштейн против участкового судьи!» — гласили на следующий день заголовки в газетах. Он не читал этих заголовков.