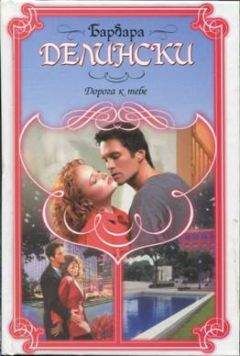Жан Маре - Жизнь актера
Когда гораздо позже я признался своей Жозетт из Кабри, что больше не люблю Розали, она возмутилась.
— Вы не летали бы на самолете каждое воскресенье, чтобы повидать ее, и не справлялись бы ежедневно о ее здоровье по телефону, если бы не любили ее!
— Жозетт, я больше не люблю свою мать, и, когда она умрет, я не пролью ни одной слезинки.
— Я вам не верю!
Однако я продолжал молиться, чтобы она попала в рай. Бог часто снисходил к моим мольбам, но порой мог сыграть со мной шутку. Вот, возможно, одна из них.
Я узнал, что мать в тяжелейшем состоянии. Лечу из Парижа к ней в Кабри, на юг Франции. Приглашаю священника. Она почти без сознания, ее причащают. Вскоре она поправится, но рассудок ее будет уже не тот, что прежде. Я вспоминаю слова Иисуса: «Блаженны нищие духом...» Ответил ли он на мою мольбу, подшутив надо мной таким образом?
В то время, когда я играл Сирано в Лионе, я получил письмо от Розали. Оно начиналось словами: «Мой дорогой Альфред», исправленными на: «Мой дорогой Жан». Альфредом звали моего отца.
Когда Розали была здорова, она проводила время за писанием писем. И если мне случалось уезжать, я получал от нее по крайней мере по одному посланию в день. Со времени своей болезни она больше не писала, и моя Жозетт настаивала, чтобы она подала мне о себе весточку. Жозетт оставалась около больной, чтобы поддерживать ее и в то же время определять по почерку ее психическое состояние. Это она заставила исправить «Мой дорогой Альфред», сказав: «Вашего сына зовут Жан, а не Альфред».
Из письма было видно, что в первых строчках она обращалась ко мне. Но дальше она снова писала своему мужу. Я так надеялся узнать хоть что-нибудь. Увы! Ничего... Она подписалась: «Твоя любимая женушка Анриетта Маре». Тогда я позвонил Жозетт и просил ее позволить матери писать все, что ей хочется, в надежде узнать правду.
Когда я вернулся в Кабри, Жозетт рассказала, что, войдя однажды неожиданно в комнату матери, она увидела, как Розали рвала письмо и поспешно засовывала обрывки в рот. (Это напомнило мне булавки в полицейском участке.) С большим трудом Жозетт удалось уговорить ее отдать эти кусочки бумаги. Она заставила Розали открыть рот и забрала бумагу, которую отдала потом мне. «Нужно, чтобы ты узнал, что твой отец...» — это все, что можно было прочесть.
Розали была кроткой и милой. Но ее истинная природа быстро возобладала. С возрастом достоинства и недостатки проявляются все сильнее. Моя Жозетт проявляла беспримерную преданность, твердость и нежность. Но несправедливое отношение моей бедной мамы убивало ее.
Я полгода был без работы, следовательно, находился около Розали. Я смотрел на ее лицо, которое теперь было похоже на ее жизнь. Она едва владела своими деформированными руками, и я спрашивал себя, не было ли это знамением, предупреждением.
Она умерла 15 августа. Я не пролил ни одной слезинки. Жозетт только в этот день поняла, что я говорил ей правду. А вот Жозетт плакала. Это моя младшая сестричка. Ненастоящая, разумеется, поскольку так распорядилась судьба.
23
Как я уже говорил, Жан Кокто умер раньше моей матери. Это была самая тяжелая минута в моей жизни, вы поймете почему. Я снимался в фильме «Достопочтенный Станислас». Как-то ночью мне приснился сон, что Жан умирает в голубой комнате Розали. Я взял его на руки, спустился в столовую моего детства, положил его возле переносной комнатной печки и возвратил к жизни, массируя ему ноги. Этот сон произвел на меня столь сильное впечатление, что, придя на съемочную площадку, я рассказал его своим гримеру и костюмерше. Чтобы успокоить меня, они стали уверять, что, если видишь во сне смерть дорогого тебе человека, это продлевает ему жизнь на десять лет. Несколько дней спустя мне сообщили по телефону, что у Жана второй инфаркт. Я помчался на улицу Монпансье. Жан снова лежал на кровати в бывшей моей комнате. Я стал на колени у его изголовья. Подвижными были только его глаза, они излучали огромную нежность. Я положил свою руку на его. Он хотел что-то сказать, но я остановил его. Мне было мучительно больно сознавать свою глупость и беспомощность.
Жан, значит, я люблю тебя так мало, что не могу тебе помочь, не могу поменяться с тобой жизнями, возрастом, не могу отдать тебе свою силу, свое здоровье! Сейчас приедет профессор Сулье. Не испытывая к тебе той нежности, которая переполняет мое сердце, он тебя вылечит. Он тебя вылечит, он тебя спасет.
Мы по-прежнему молчим, моя рука лежит на его руке. Его глаза устремлены на меня. В них нет страха, только доброта и понимание. Наверное, он догадывается, о чем я думаю. Кажется, он благословляет меня. Он должен страдать больше, чем любой другой, потому что более восприимчив.
Наконец приехал профессор Сулье, спокойный и уверенный. Он удивился, узнав, что морфий не оказывает действия. Он действительно не понимал или делал вид, что не понимает. Он увеличил дозу. Дважды в день он наведывался к больному. Днем и ночью возле Жана дежурили присланные профессором врач и сиделка. Здесь же постоянно находились Эдуар Дермит, Франсин Вайсвайлер, домоправительница Мадлен и я. Крохотная квартирка была переполнена.
Кароль Вайсвайлер тоже была здесь. Друзья заходили узнать о состоянии здоровья Жана. Все старались производить как можно меньше шума, говорили только шепотом.
Профессор Сулье просит растирать Жану ноги синтолом, чтобы восстановить кровообращение. Делая массаж, я вспоминаю свой сон.
Через несколько дней Жану стало лучше. Он попросил, чтобы мы пошли на премьеру его пьесы «Человеческий голос» в «Опера-комик». Кароль, Дуду и я посмотрели этот спектакль. Вернувшись домой, мы сказали Жану правду: спектакль замечательный. Дениза Дюваль потрясает, она великая актриса, обладающая к тому же очень красивым голосом. Жан счастлив.
Все считают, что восстановительный период Жану лучше всего провести в моем доме в Марне, под Парижем, — он одноэтажный, с садом. Но Жан отказывается. По секрету мне сказали, что он не хочет, чтобы я узнал, что он снова курит опиум.
-— Скажите ему, что я давно об этом знаю. Скажите также, что только две вещи имеют для меня значение: его жизнь и, его здоровье. И вообще сейчас не время поднимать этот вопрос. Кстати, я рассказал об этом доктору, поэтому он и увеличил дозу морфия.
Итак, Жан едет в Марн. Машина «скорой помощи» кажется ему верхом комфорта и роскоши. Он шутит: «Впредь я буду ездить только на машине «скорой помощи»!»
Присутствие Жана придает смысл существованию моего дома в Марне. Он устраивает свой уголок, и все преображается. Его комнаты в отеле «Кастилия», на площади Мадлен, в «Отель де ля Пост» в Монтаржи,на улице Монпансье как бы возрождаются здесь. Масляная лампа, на которой он разогревает серебряные иглы для приготовления опиума, возвращает меня во времена чтения «Рыцарей Круглого стола». Я сижу на полу возле его кровати.