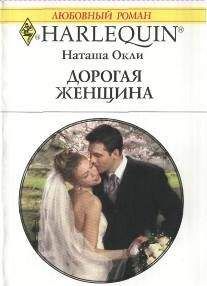Петр Вайль - Стихи про меня
Русский поэт, проживший четверть века в Америке и ставший фактом двух литератур, нагляднее всего любил Италию, написав о ней два десятка стихотворений, два больших, изданных отдельными книгами, эссе: "Набережная неисцелимых", "Дань Марку Аврелию". Каждый год, и не по разу, Бродский бывал в Италии. Он говорил об этой стране: "То, откуда все пошло", а об остальном: "Вариации на итальянскую тему, и не всегда удачные".
Понятно, здесь мандельштамовская тоска по мировой культуре. Но и просто всплеск эмоций, главная из которых — восторг от жизни. Нигде это не проявляется с такой силой, как в итальянских стихах, особенно в "Пьяцца Маттеи", где количество восклицаний и прописных — рекордное для Бродского. В Риме он даже позволил себе умилиться по поводу утехи гимназисток, выпив какао со сливками, а не вино или граппу (см. "Лагуну"), которые любил — потому что все по-особому "в центре мирозданья и циферблата".
Определяющее слово тут — "центр". Италия служила эмоциональным балансом, удерживая в равновесии две бродские судьбы — Россию и Америку. Являла собой гармонию — климатом, музыкой, архитектурой, человеческими лицами, голосами.
Как-то в Москве была устроена выставка, призванная обозначить взаимовлияние русского и итальянского искусства. Сама постановка вопроса — тупиковая.
Чему и когда мы могли научить итальянцев? Правда, есть начало XX века, когда на короткий период русское искусство оказалось в авангарде — в прямом и переносном смысле слова. Без Малевича и Кандинского картинка столетия была бы иной. Но в предыдущие века все основы — нет, не изобразительного искусства, а самого видения мира — заложили итальянцы. Вовсе не только для русских, для всех. Просто в северной холодной стране их достижения выглядели иногда экзотично. Взять хоть эти палладианские дворцы, созданные для средиземноморского солнца, которыми уставлены улицы Питера, которые строили помещики какой-нибудь Вологодской губернии, которые по сей день запечатлелись в советских Дворцах культуры хоть бы и Сибири.
Не важна практическая нелепость, важно, что воспринималась несравненная итальянская соразмерность, прямое и непосредственное соответствие человека бытию. Вот чему учились у них другие народы. Опять-таки речь не о ремесле — слава богу, в российских и иных академиях неплохо учили по слепкам и копиям. Русскому литератору и вовсе чужбина профессионально ни к чему. Но и Александру Иванову, и Николаю Гоголю нужна была сама Италия, всё гармонизирующая собой. Вот почему они просиживали годами в кафе "Греко" на виа Кондотти и в других местах благословенной страны. Им и многим-многим другим нужно было то искусство повседневности, которым в полной мере обладают только итальянцы.
Есть такая болезнь — агедония: неспособность осмысленно и полно получать удовольствие от жизни. Бич, который так и косит современную цивилизацию, хлеще СПИДа. Италия — одно из немногих безотказно действующих против этого средств. Привязанность к Италии — уже прививка.
Надо было видеть Иосифа в конце сентября 95-го года, когда мы с женой гостили у Бродских в Тоскане. Как он выбирал белые грибы и маслины на рынке. Как показывал Лукку и соседние городки. Как заказывал обед (у меня хранится меню ресторана "Buca di San Antonio" с надписью "На память о Великой Лукке, где мы нажрались с Петей в Буке"). Как мы сидели во дворе их дома, глядя, как внизу лесник по имени, конечно, Виргилий (Вирджилио) жег листву. Дым уходил к дальним холмам — тем самым, опять-таки мандельштамовским, "всечеловеческим, яснеющим в Тоскане", которые здесь бывают не только зелеными, но и синими, лиловыми, фиолетовыми. Мария взяла дочку посмотреть на костры. Они уже возвращались, поднимаясь по склону. Бродский оторвался от разговора и, охватывая взглядом картину, полувопросительно произнес: "Повезло чуваку?"
Италия становилась, да и стала уже, для него своей.
По обыкновению, как он умел, снижая пафос и расширяя понятие, Бродский сказал мне о "Пьяцца Маттеи": "Это стихотворение о том, что у тебя есть воспоминания".
Надо знать места. Называние (и взывание: "о Боже", и обзывание: "бляди!") увековечивает, и более того — облагораживает. Назвать — не только запечатлеть, но и присвоить титул. Поддать с принцем, положить с прибором на джентльмена. Рванина дворянина. Непруха духа. Отсюда, из освоения действительности — раскрут эротической зарисовки в манифест.
"Поэтическая речь — как и всякая речь вообще — обладает своей собственной динамикой, сообщающей душевному движению то ускорение, которое заводит поэта гораздо дальше, чем он предполагал, начиная стихотворение". Это Бродский о Цветаевой, но и о себе, разумеется. Он называл такое — "центробежная сила стиха". И конкретно о "Пьяцца Маттеи": "К концу — все больше освобождения. Хочется взять нотой выше, вот и все".
Вот и все.
"Он был существом, обменявшим корни на крылья", — сказал Степун о Белом. Похоже. Впрочем, у Бродского корни были всегда — язык. (По подсчетам канадской исследовательницы Татьяны Патеры, его лексикон — самый обширный в русской поэзии: около 19 тысяч слов.) Так что о корнях нечего беспокоиться и нет надобности выставлять их на обмен. А вот крылья — позднейшее приобретение, о чем так выразительно выкрикнуто в строфе XVI. Напрасно только здесь "под занавес" — на дворе стоял всего лишь 1981 год.
Как бесстрашно Бродский повторяет на разные лады слово "свобода", изжеванное всеми идеологиями. Как очищается оно восторженной искренностью. Как причудлив и в то же время логичен переход от графа с павлинами к тому, дороже и важнее чего нет на свете.
Как радостно присоединяешься к этому чувству.
"Пьяцца Маттеи" — может быть, лучший пример того, что настоящий поэт, о чем бы ни заговаривал, всегда говорит то, что хочет и должен сказать.
ПО ПОВОДУ ФУКО
Лев Лосев 1937
ПОДПИСИ К ВИДЕННЫМ В ДЕТСТВЕ КАРТИНКАМ
Штрих — слишком накренился этот бриг.
Разодран парус. Скалы слишком близки.
Мрак. Шторм. Ветр. Дождь. И слишком близко брег,
где водоросли, валуны и брызги.
Штрих — мрак. Штрих — шторм.
Штрих — дождь. Штрих — ветра вой.
Крут крен. Крут брег. Все скалы слишком круты.
Лишь крошечный кружочек световой —
иллюминатор кормовой каюты.
Там крошечный нам виден пассажир,
он словно ничего не замечает,
он пред собою книгу положил,
она лежит, и он ее читает.
1984
Виртуозность стиха труднопредставимая. Но это уж потом обращаешь внимание и восхищаешься, как передан экспрессивный рисунок, на который глядит автор, какая звукопись бури, будто слышная наяву. Стискиванье согласных — особенно в третьей, пятой и шестой строках: удары волн, треск бортов. Это после, вчитываясь и восторгаясь. Первое и самое, вероятно, важное — ощущение покоя и правильности жизненной эмоции. Опять-таки лишь во внимательном перечитывании понимаешь, как при переходе от шторма к пассажиру удлиняются слова, как отступает и приглушается раскат "р", исчезая в последних стихах. Первое же и самое, вероятно, важное: ты видишь этого спокойного и мудрого с книжкой. Хочется так же выглядеть в бурях. В противоположность тому, под парусом, у которого только струя светла, остальное — мятежный ужас.