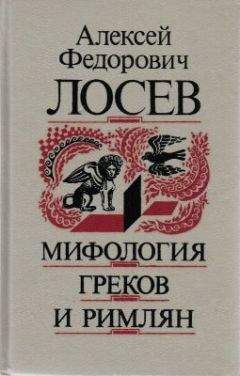Алексей Лосев - Алексей Федорович Лосев. Раписи бесед
специально для него «историю логических учений». Из-за Зиновьева должны были уйти и некоторые другие люди. Правда, потом вытеснили самого Зиновьева. Но с нами, слабосильными, ущербными, с миллионщиком (отец был суконным фабрикантом) Поповым Зиновьеву справиться было легко.
А вот вторая причина, почему Зиновьев не нравится Лосеву, для которого края философии и веры сходятся во всеобъемлющем символизме: презрение к диалектике, дьяволектике, диа-дурочке, плоский позитивизм.
Рената восторгалась этими рассказами. Записывает ли что-нибудь А. Ф.? Нет, ничего. Нас отучили записывать в 30-е годы, сказала Аза Алибековна. Записывать, вести дневники тогда отучились даже дети.
Как-то разговор снова перешел на Флоренского, и А. Ф. совсем разгулялся. Пошел рассказ о том, как в 30-м году, когда А. Ф. посадили на 11 месяцев, он в Бутырках говорил с епископом Феодором[209]и спрашивал, как он, епископ Феодор, мог в ноябре 1912 назначить Флоренского редактором «Богословского вестника». — «Да потому что никого уже не оставалось верующих. Тареев безбожник, Попов [210] тюбингенец, и так далее». О тюбингенце Алексею Федоровичу рассказывал в свое время и сам Флоренский; после его лекции, где каждая фраза Евангелия возводится к разнообразным источникам, выходишь с потерянным чувством, а где же Евангелие? Нет его! Научитесь им доказывать, молодой человек, говорил Лосеву Флоренский, что есть достоверность Евангелия как целого. Самому Флоренскому удалось найти такое армянское Евангелие (или отрывок?) 2-го (предположительно?) века, где есть стихи, объявленные у тюбингинцев позднейшими послесоборными вставками.
3. 7. 1978. В пятницу 30 июня утром я стал неожиданно думать, что Лосевы не звонили с Пасхи и что они переезжают. За завтраком позвонила Аза Алибековна. В субботу 1 июля я был на их переезде. А. А. сказала, что А. Ф. почти не спал и утром она едва его добудилась. На даче у Спиркина опять три голодные собаки, одна из которых утащила громадный батон колбасы при мне; я
даже и не стал отнимать, представив себе их голод. Майя зато очень полна. Александр Георгиевич растерян, глуховат и криклив. Он долго сплетничал с А. Ф. о передвижениях в Академии, жалуясь на всеобщую философскую некомпетентность, потом они внезапно перешли на собак. Одна пропала, а я думаю, что ее погубили. Я давал Малышу хлеб и сосиску отдельно, он ел и то и другое.
А. А. радовалась вышедшей в Детгизе книге о Платоне, где А. Ф. принадлежат 8 и 14 главы, мемориальной доске, установленной ее деду на их доме в Орджоникидзе, своей опубликованной работе о Дионисии как гимнографе. Я согласился, что это ее открытие: я не знаю, кто бы еще так разбирал Ареопагита, а это открывает ключ и к атрибуции, и к жанру, и к позднему происхождению Ареопагитик.
А. Ф. постепенно разгулялся. Он даже выпил прекрасного псоу из обкомовских подвалов Орджоникидзе, объявив, правда, что может пить разве что только как на пире во время чумы. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю», возгласил он, когда пил второй раз. Меня поразило, как его мучит воспоминание о 30-х годах. Я ведь был подлипала, говорил он снова[211], я ведь выходил на кафедру и говорил, что, товарищи, никаких индоевропейских языков не существует, это реакционная теория об арийском племени. Лосев ведь был такой подлиза и верноподданный. А после своих выступлений плакал и каялся: что же это я говорил?
— Но, Алексей Федорович, ваш тон всегда многозначительный; возможно, слушателям западала другая мысль, что, может быть, всё-таки эти индоевропейские общности есть?
Аза Алибековна быстро меня прервала, переведя разговор на кавказские сказки: о посещении Макаевым католикоса[212], о Константине Гамсахурдия, который встретил Белецкого в своем миллионном парке, держа сокола на руке в кожаной перчатке, а рядом гуляли олени. «Да как же? — с провокативным злорадством спросил Лосев, — ведь Звияд раскаялся?» Володе Жданову Лосев деловито и обстоятельно объяснял, почему нельзя иметь землю и держать огород: ты посадил цветы, вышел в од
но прекрасное утро и видишь, что твоих цветов нет. Их сорвал мальчишка, который в это время продает их на рынке. Вот сколько мы старались с картошкой, и ее всю вырыли. В наше время ничего выращивать нельзя. А. А. сказала, что в 1942—43 годах А. Ф., поливая картошку по 4–5 ведер в день, нажил себе кровоизлияние в глаза и в тех пор стал терять зрение. В другой раз Лосев вспомнил, что у него тогда случился удар.
А. Ф. поручил мне сделать выписки из фрагментов Аристотеля, по которым они с Азой Алибековной напишут для Детгиза такую же, как «Платон», книгу об Аристотеле. А. Ф. в который раз рассказал легенду о моих первых никудышных рефератах (видит Бог, все, кроме одного первого, благополучно пошли куда надо) и о быстром научении и пообещал заплатить больше чем издательство в десять раз. Я на минуту было подумал о другой форме сотрудничества. История с аристотелевским томом Истории античной эстетики меня ничему не научила.
Меня ничто ничему не может научить. А. Ф. опять долго держал мою руку на прощанье, передавал приветы Ренате, всё в модусе и в роли, которую он живо переживает, разигрывая в шутку государственного человека.
23. 9. 1978. Поздравительная телеграмма Ренаты: «Нашему дорогому Гейдельбергскому университету…» Ее зачитывал торжественно Спиркин, на почте спрашивали, где в дачах открылся университет. — Рената в застольном разговоре о ком-то: «Скука, но не партийная».
A. Ф.: «Остроумно сказано».
Начало лета 1979. Я опоздал на защиту Гасана Гусейнова. Я ехал из «Мысли», в который раз перебирал возможности поворота дела[213]; наконец, меня оштрафовал в троллейбусе вежливый изувер, хотя я точно помню, что билетик купил и даже оторвал от него для экономии водителя лишь малую часть. В большую аудиторию на первом этаже после хождения по верхним коридорам и разузнавания я вошел уже только при заключительном слове Лосева — и сразу был зачарован, как пятнадцать лет назад, его голосом, дерзким, поднимающим.
«Одно дело миф сам по себе, другое — миф в каком-то своем инобытии. Это нагрузка мифа, которая самому мифу еще не принадлежала. Гусейнов умеет читать Эсхила таким образом, что форма и содержание как-то не различаются. Убедительно, ясно, с умением так хорошо сказать, что вопросов не возникает! Интересно, что образы Эсхила мифологичны и немифологичны одновременно. Сказать, что Эсхил сводится к художественным образам, мало. Образы искусства служат предметом любования. А у Эсхила образ есть и огромная жизненная образующая сила. Правда, на дворе уже 5 век и миф перестает существовать, однако миф составляет всё-таки еще мировоззрение Эсхила, и трудно сказать, где у него миф, а где не миф. Тут и не художество и не проза, и не миф и не реальность. Это и не просто искусство, и это не миф, и это не отсутствие мифа. После ознакомления с диссертацией я понял, что Гусейнов хочет еще раз развернуть и в сотый раз прочитать Эсхила. Теперь, после Гусейнова, мы знаем, что Эсхил это и не искусство, и не миф. Тогда что же? А