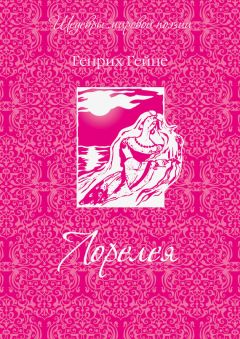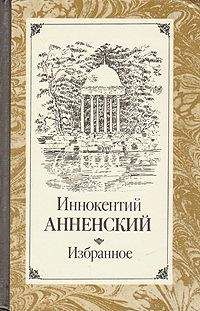Александр Дейч - Генрих Гейне
Но, к глубочайшему сожалению, этого не случилось. И поэтому шатания Гейне глубоко трагичны. Он страдал от них глубоко и искренно, хотя маскировался остроумием, насмешкой, иронией. Но он правильно сказал, что по его сердцу прошла трещина, расколовшая мир, и от этого он безнадежно болен.
5В «Признаниях» Гейне пересматривает свое старое отношение к «назареям» и «эллинам». Он разумел под назареями «людей аскетических, враждебных образности, жадных к одухотворению», и им противопоставлял эллинов, «людей с жизнерадостным, горным, реалистическим характером».
В книге о Берне Гейне выдвигал теорию «свободного интеллектуального индивидуума», эллинства и себя причислял к эллинам, а Берне считал типичным представителем назарейства, человеком догмы.
В «Признаниях» Гейне много говорит о своем отказе от прежних позиций «эллинства», о своем «обращении».
По уверениям поэта, он обращается к назарейству, ж национально-иудаистическим идеалам своей молодости.
Былой безбожник и неутомимый борец против клерикализма, Гейне заверяет, что он решил вернуться к богу.
Мотив этого обращения скорее социально-политический, чем моральный и психологический. Боясь коммунизма, инстинктивно отталкиваясь от этого движения, Гейне отходит и от атеизма, сопутствующего движению пролетариата: «Немецкие ремесленники исповедуют большею частью самый грубый атеизм и должны во что бы го ни стало присягать безотрадному отрицанию, если не хотят впасть в противоречия со своими принципами и тем самым выказать полное бессилие. Эти разрушительные когорты, эти саперы, чьи топоры угрожают всему общественному строю ужасающей последовательностью своих доктрин, значительно превосходят единомышленников и революционеров других стран».
Снова Гейне подчеркивает здесь революционную сущность философии Гегеля: «Я видел, как Гегель с почти смехотворным видом сидел, словно наседка на роковых яйцах, и я слышал его кудахтанье». Гейне указывает, что он предсказал, «какие мелодии будут насвистывать и чирикать в Германии, потому что он видел, как высиживались птенцы, затянувшие впоследствии новые песни».
Поэтому прикованный к «матрацной могиле» поэт отрекается и от философии Гегеля, давшей в руки коммунизма острое оружие диалектики, и от атеизма, как идеологической опоры движения пролетариата.
Нельзя понимать буквально «обращение» к богу Гейне. С глубокой иронией разоблачает он сам перед другом последних лет, Альфредом Мейснером, смысл этого «обращения»: «Там, где кончается здоровье, там, где кончаются деньги, там, где смолкает здравый человеческий смысл, - там начинается христианство».
И задолго до этого, говоря об обращении философа Шеллинга на смертном одре, Гейне сказал: «Перед смертью многие вольнодумцы возвращаются к вере, но это не служит к ее славе. Все эти обращения являются патологическими и доказывают в конце концов невозможность обращения к богу вольнодумцев, пока они владеют своими чувствами и являются хозяевами своего разума».
При таких обстоятельствах трудно говорить о том, что Гейне действительно стал чувствовать прилив какой бы то ни было религиозности перед смертью. Он по-прежнему считал бога «великим мучителем животных», и если под влиянием острых болей, приближающейся кончины и под нажимом окружающих он и начинал иногда думать о боге, то о таких моментах он сам говорил с глубочайшей иронией, подчеркивая, что ему как-то удобнее, с богом, чем без него: «Когда лежишь на смертном одре, становишься очень чувствительным и мягким, и хочется заключить мир с богом и миром… Как с его созданиями, так и с самим творцом я заключил мир к великому неудовольствию моих просвещенных друзей, которые бросают мне упреки в возвращении к старому суеверию, как они называют обращение к богу».
В послесловии к «Романсеро» (1851) Гейне указывает, что он «поклонялся прежде богу пантеистов, но пантеизм по существу - это скрытый атеизм, и поэтому он отказался от него».
Когда изможденный, истерзанный Гейне лежит в полутемной комнате, к нему со всех сторон являются друзья и стараются вернуть к богу. Все чаще приходится прибегать к успокоительному действию морфия или опия, и как-то он говорит своей приятельнице, Фанни Левальд: «Между опиумом и религией больше родства, чем это кажется даже лучшим умам».
В таких тяжелых страданиях он обращается, как к утешению, к опиуму религии.
Однажды, когда он изнемогал от страданий в своей маленькой спальне, к нему явились два друга - немецкий профессор Герман Фихте, сын знаменитого философа, и Эдуард Фихте.
Разговор зашел о бессмертии души и о существовании бога. С метафизическими ухищрениями Герман Фихте старался доказать, что человеческая душа бессмертна, что она живет до рождения человека и переселяется в другое человеческое существо после его смерти. Затем разговор перешел на тему о ясновидении, о теософии шведского мистика Сведенборга[20].
По свидетельству Фихте, эта беседа произвела большое впечатление на Гейне, и Фихте казалось, что он обратил поэта в настоящую веру. Но тут же он приводит слова Гейне, обнаруживающие, как глубоко было в нем безбожие: «Когда человек болен, он нуждается в милосердии божьем, когда он здоров - бог ему не нужен».
Рассказывая в послесловии к «Романсеро» о своем возвращении к личному богу, Гейне относится насмешливо к этому обращению, издеваясь и над потусторонними мечтаниями Сведенборга: «В потустороннем мире Сведенборга бедные гренландцы будут чувствовать себя удобно. Однажды эти гренландцы задали вопрос датским миссионерам, хотевшим их обратить в христианство: имеются ли тюлени на христианском небе. На отрицательный ответ они сказали огорченно: «Значит, христианское небо не подходит для гренландцев, которые не могут существовать без тюленей».
И он добавляет: «Утешься, дорогой читатель, загробная жизнь существует, и мы найдем на том свете своих тюленей».
«Обращение» Гейне не приводит его в лоно той или иной церкви. Меньше всего он склонен к католическому обскурантизму. Не манит его и протестанство, хотя он ценит его «за услуги, оказанные завоеванию свободы мысли». Иудаизм, вера предков, навевает воспоминания детства. Это отражается в «Еврейских мелодиях», цикле «Романсеро», где Гейне перепевает легенды о принцессе Саббат или Иегуде бен Галевн.
Старый романтик окрыляется легендами иудаизма, - и в виде противоядия пишет замечательную сатиру «Диспут», где в споре капуцина с раввином, чей бог настоящий, он не становится ни на ту, ни на другую сторону.
Духовный турнир между католиком и евреем кончается ироническим восклицанием: