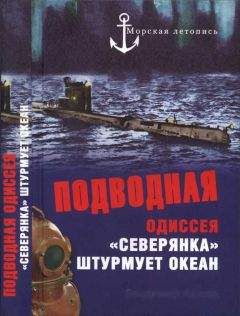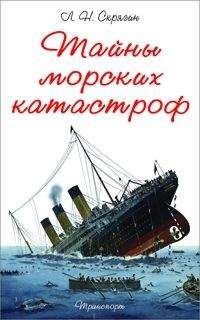Иван Бунин - Том 6. Публицистика. Воспоминания
Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью — вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше, есть все, что требуется по образцам данного времени, и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нежная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту «стройную, грациозную» Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода…
Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни», предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербия» студента: «Не я один погиб от моральной заразы… Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:
— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса… («Молох».)
— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами… В углу, перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии…
— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку…
— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу…
— К чему эта жизнь? — говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар… («Болото».)
— Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание… Он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих… («Лесная глушь».)
— Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчиков на дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты…
— Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович… («Жидовка».)
Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно «свешивающиеся с печки» детские головки, этот вечный огрызок сахару, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы…»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович — и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:
— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши… что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки…
— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою хоть самую малюсенькую пользу, — говорил учитель фельдшеру. — Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным в прекрасным…
В рассказе «Нарцисс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бетси, — да, это уж неизбежно: Бетси! — и грозовый вечер, — «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»… В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки», пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть гения!»
Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев, и на жену смотрел, как на благоприобретенную собственность…» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди»…