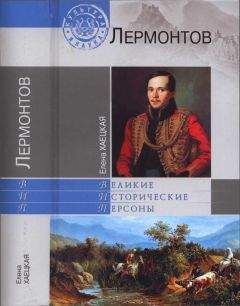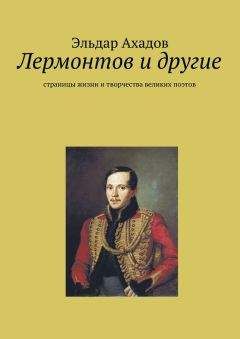Виктор Афанасьев - Лермонтов
Лермонтов рассчитывал поступить в Петербургский университет на второй курс и, проучившись два года, выйти наконец на свободу и начать жизнь литератора. Однако, так как он не сдавал экзаменов в Москве за свой первый курс, ему предложили начать все снова. К тому же срок обучения в университете увеличился еще на год. Получалось, что учиться нужно было не два, а четыре года... От одной мысли об этом Лермонтов пришел в бешенство. Его планы рушились. Бабушка попыталась уговорить его все-таки пойти на первый курс, уверяя, что время пролетит незаметно и что надо же получить настоящее образование и начать какую-нибудь службу, как вот Святослав Раевский. Но Лермонтов буквально восстал против университета. Он уже выбросил из головы всякую мысль о нем. Елизавета Алексеевна, не зная, что делать, так расстроилась, что слегла в постель. Родственники забеспокоились. Они приезжали, охали вместе с бабушкой, приступали к Лермонтову с уговорами и даже упреками. Аннет Столыпина писала своей кузине Пашеньке Столыпиной в Москву, что у Лермонтова большие неприятности, которыми он довел бабушку до болезни. Положение создалось тяжелое, на первый взгляд безвыходное.
Однажды вместе с Натальей Алексеевной и Аннет пришел отставной гусарский офицер (он как раз собирался вернуться в полк) Алексей Григорьевич Столыпин, брат Аннет. Когда они сидели одни в комнате Лермонтова, Столыпин сказал:
— Я учился в Школе юнкеров... Подумайте, Мишель: два года, и вы офицер гвардейского полка! — хоть нашего, славного лейб-гвардии Гусарского. Поступить туда вам будет нетрудно. Не захотите служить — подадите в отставку. Вот мне двадцать семь, а я третий год в отставке. Вы сможете располагать собой. Из нашей родни многие учились в этой школе. В этом году будут поступать мой брат Михаил и наш с вами кузен Николай Юрьев, в следующем — сын Веры Николаевны Алексей. Я похлопотал бы, чтобы вас зачислили унтер-офицером в наш полк.
Этот путь оказался единственно приемлемым для Лермонтова. К тому же там, в Школе юнкеров, уже были свои люди — Николай Шеншин и Мишель Сабуров уже отучились там один год. Правда, Елизавета Алексеевна не хотела, чтобы внук шел в военную службу, но он, захваченный новым планом, был так красноречив, что переубедил ее. В конце сентября он подал в канцелярию школы соответствующее прошение. В это же время он узнал, что один из его лучших московских приятелей, Николай Поливанов, также едет поступать сюда... Это окончательно укрепило Лермонтова в его намерении стать военным. В день своего рождения, 3 октября, он написал об этом Марии Александровне Лопухиной. «Я не могу вам выразить огорченье, — отвечала она, — которое причинила мне дурная новость, сообщенная вами. Как, после стольких усилий и трудов увидеть себя совершенно лишенным надежды воспользоваться их плодами и быть вынужденным начать совершенно новый образ жизни? Это поистине неприятно. Я не знаю, но думаю все же, что вы действовали с излишней стремительностью, и, если я не ошибаюсь, это решение должно было быть вам внушено Алексеем Столыпиным, не правда ли?» Опять догадка! Лермонтов был поражен.
Зная характер Лермонтова, Мария Александровна не боится быть непоследовательной. Она дальше, в этом письме, не только не решается продолжать свои упреки, но сводит их на нет: «На военной службе вы также будете иметь все возможности, чтобы отличиться: с умом и способностями возможно всюду стать счастливым. К тому же сколько раз вы говорили мне, что если бы вспыхнула война, вы бы не захотели оставаться безучастным. Ну вот, вы, так сказать, брошены судьбой на путь, который дает вам возможность отличиться и сделаться когда-нибудь знаменитым воином. Это не может помешать вам заниматься поэзией; почему же? одно другому не мешает. Напротив, вы только станете еще более любезным военным».
До получения этого ответа Лермонтов послал Марии Александровне еще письмо: «Не могу еще представить себе, какое впечатление произведет на вас такое важное известие обо мне: до сих пор я предназначал себя для литературного поприща, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру и вдруг становлюсь военным. Быть может, такова особая воля провидения! Быть может, это кратчайший путь, и если он не приведет меня к моей первоначальной цели, то, возможно, приведет к конечной цели всего существующего. Умереть с пулей в груди стоит медленной агонии старца; поэтому, если начнется война, клянусь вам Богом, что везде буду впереди».
Здание Школы юнкеров находилось тут же, у Синего моста, неподалеку от квартиры, нанятой Елизаветой Алексеевной в доме Ланского. Прямо от моста ворота вели во двор — налево гауптвахта, направо — канцелярия и вход в кабинет командира школы; прямо — главный подъезд с лестницей, украшенной касками, кирасами, карабинами. Внизу и вверху классы, залы для занятий, дортуары. Подпрапорщики и юнкера, носившие форму тех полков, где они числились, были все люди состоятельные, из аристократических семей. Они пользовались некоторой свободой и имели собственную прислугу. Это был в некотором роде военный лицей. Позади школы располагался обширный сад с плацем посредине, за ним — конюшни, манеж, дом, где жили офицеры. Поступающим разрешалось ходить по всей школе и все осматривать.
4 ноября Лермонтов экзаменовался. С 8-го числа он уже должен был «числиться налицо» в школе. 14-го его приняли унтер-офицером в лейб-гвардии Гусарский полк. «Здравия желаю! Любезному гусару! — писал ему из Москвы Алексей Лопухин. — Право, мой друг Мишель, я тебя удивлю, сказав, что не так еще огорчен твоим переходом, потому что с живым характером твоим ты бы соскучился в статской службе... Насчет твоего таланта, ты понапрасну так беспокоишься, — потому кто любит что, всегда найдет время побеседовать с тем». Лермонтов еще полтора месяца числился в школе «кандидатом», так как в юнкера экзаменовавшиеся зачислялись очередно, по старшинству набранных баллов (сдавались пять предметов: математика, история, география, русский и французский языки). Так что Лермонтов и на этих, очень легких для него экзаменах нисколько не постарался блеснуть.
Оказавшись в Школе юнкеров, Лермонтов будто вернулся в пансион, столько тут было среди товарищей школьничества, озорства. Он давно отвык от этого, давно стал взрослым, но что было делать! Здесь были свои традиции... Приходилось отчасти возвращаться в детство. Словно время вдруг дало обратный ход. Здесь не университет — отойти от всех, устраниться — нельзя. Нужно спать в одном дортуаре, есть в одной столовой, заниматься в одних классах и маршировать бок о бок с товарищами.
Конечно, Лермонтов не только не сделался одним из «новичков», над которыми старшие традиционно подшучивали, испытывая их на прочность, но сразу стал одним из первых, так как во всем эскадроне только юнкер Евграф Карачинский мог сравняться с ним в силе рук, а если говорить о силе воли, то ему не было равных. Ни военные учения, ни тем более лекции, до предела упрощенные, не представляли для него большой трудности. Единственная трудность — поднадзорное житье, невозможность свободно располагать собой. Как бы дружески ни обращались с юнкерами дежурные офицеры, они все же следили за порядком, и нарушителя его ждали карцер и гауптвахта.