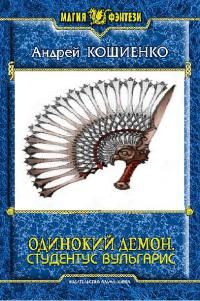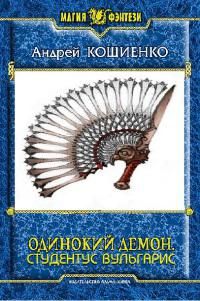Александр Пузиков - Золя
Вернувшись из Рима, Золя пришел в ужас от накопившихся у него материалов к роману. Он буквально запутался в огромном количестве всяких заметок. Никогда еще он с такой робостью не приступал к написанию романа. Трудности работы над «Римом» усугублялись разными другими заботами. Как раз в это время ему приходится вести сразу три судебных процесса: процесс по обвинению в клевете в связи с изданием «Лурда», тяжбу с бразильскими издателями по поводу незаконного выпуска его книг, тяжбу с газетой «Жиль Блаз» из-за расчетов по «Лурду». В довершение всего у Золя начались мучительные невралгические боли, длившиеся всю ночь и проходившие лишь к утру.
В Италии он почти не читал французских газет и отстал от жизни, да и сейчас у него почти не оставалось времени, чтобы следить за новостями. Последним событием, взволновавшим Францию, было убийство президента Сади Карно. Но это случилось до поездки в Италию. А вот дело Дрейфуса, о котором сейчас толкуют в Париже, ему почти не известно, да, по правде говоря, и не очень его интересует. В октябре 1894 года военные власти арестовали какого-то капитана французского генерального штаба по обвинению в шпионаже. 22 декабря его судили военным трибуналом, и теперь кругом кричат, что Франция наводнена шпионами. Ко всему прочему, Дрейфус оказался еще и евреем. Этого было достаточно, чтобы в стране развернулась антисемитская кампания. Черт с ним, с Дрейфусом, если он действительно виноват, но вот антисемитизм явление достаточно гнусное.
В конце февраля 1896 года, когда оставалось написать последнюю главу «Рима» (первые главы начали печататься в «Журналь» два месяца тому назад), Золя устроил обед в честь кузена Гонкура — Эдуарда Лефевра де Безна, оказавшего ему содействие во время пребывания в Риме. Безн уклонился от этого обеда, боясь, что слишком интимное знакомство с Золя могло бы повредить его положению дипломата, но другие приглашенные явились. Золя жил тогда на Брюссельской улице, в своей последней квартире, где ему суждено было умереть. Квартира была отличная. Все, вплоть до умывальной комнаты, сияло роскошью. Электрическое освещение заливало гостиную и столовую. Обед тоже был роскошным. Подавали всякие экзотические кушанья, в том числе и диковинное мясо кенгуру. Гости были довольны и вели неторопливую беседу. Только Эдмон Гонкур ежился от сквозняка, так как двери в другие комнаты были распахнуты настежь. Через одну из них он увидел лестницу и расставленные вдоль стены саркофаги. Это позабавило Гонкура. Его всегда раздражало пристрастие Золя к показной дешевой роскоши, а «саркофаги римских лавочников» выглядели здесь особенно неуместно и смешно. Последнее время Эдмон Гонкур редко выбирался из Отейля, так как чувствовал себя очень плохо. Ему шел 74-й год. Старость брала свое, мысли о близком конце все чаще омрачали его одинокое существование, а эти нелепые саркофаги вызывали не только раздражение, но и грусть…
Эдмон Гонкур умер в Шанпрозе, в гостях у Альфонса Доде, месяцев пять спустя после описанного обеда. Больной и раздавленный горем Доде не приехал на похороны друга. Прощальную речь произнес Золя. Теперь их осталось только двое из участников «обедов пяти». И Золя не мог этого не вспомнить в своем надгробном слове. Не мог он не вспомнить и одну из своих первых статей, посвященную «Жермини Ласерте». Более тридцати лет прошло с тех пор, как он впервые вошел в дом Гонкуров. Во время речи Золя прочитал удивительную запись, сделанную Эдмоном в своем «Дневнике». Гонкур думал о времени, когда земля разлетится вдребезги. Но не эта мысль вызвала у него вопль отчаяния, а сознание того, что написанные им книги тогда некому будет читать. «Это может вызвать улыбку, — сказал Золя, — и тем не менее… С того дня я еще больше полюбил его, полюбил за гордыню, ту могучую, святую гордыню, что дает веру писателям, в муках рождающим свои произведения».
Золя закончил работу над «Римом» в начале марта 1896 года и сразу же приступил к составлению подробного «Наброска» нового романа, значительно отличающегося от первоначального. В общих чертах эти изменения сводятся к более отчетливому представлению о государстве, господствующих классах, о связи политики с экономикой. Раньше Золя только констатировал факты, теперь он их хочет осмыслить. Вот какие выразительные и меткие слова запишет он в последнем «Наброске»: «Все, что творится в низах, среди нищеты, является преступлением, а то, что происходит в верхах, у богачей, называется политикой».
Золя давно сделал выбор. Он без всяких условий на стороне угнетенных и считает теперь своей главной задачей проповедь справедливости. Ему хорошо известна сила слова, и он не скрывает, что хотел бы, пусть в малой степени, своим творчеством способствовать рождению будущего. В серии «Три города» и особенно в серии «Четвероевангелие» это стремление к поучениям, несмотря на самые благие намерения автора, нанесет известный ущерб художественности. И все же нельзя не отдать дань уважения прославленному, всеми признанному стареющему писателю, который в конце жизни поставил нравственную сторону искусства вровень с эстетической. Был ли прав или не прав Золя, но он впервые в жизни почувствовал себя прежде всего гражданином, ответственным перед обществом, и только после этого поэтом, художником, для которого творчество является непрерывным самовыражением. Композиционная рыхлость и растянутость его последних романов, повторение ситуаций и образов, уже использованных в «Ругон-Маккарах», дидактизм, торопливость и небрежность в какой-то мере окупаются той публицистической страстностью, которую вкладывает Золя в каждый из своих последних романов. И как ни путанны его идеалы, как ни далеки от марксизма, они рождаются из окончательной убежденности, что буржуазия изжила себя, что требуется новый, справедливый общественный строй, способный избавить человечество от невыносимых страданий.
. . . . . .Вернувшись из Рима, Пьер лишь по привычке исполняет свои обязанности священника. Он еще убежден в том, что с помощью своего сана может приносить облегчение страждущим и обездоленным. В начале романа мы видим его в кварталах бедноты, где он вместе с аббатом Родом творит добрые дела. Но скоро Пьер разочаровывается в благотворительности, окончательно рвет с церковью и пытается найти надежные средства для решения социальных вопросов.
Золя вводит в свое произведение множество персонажей. Перед нами проходят финансовые дельцы, как будто похожие на тех, с которыми мы встречались в «Ругон-Маккарах». Но напрасно мы стали бы искать среди них Октава Муре или Аристида Саккара, которых автор осуждал и которыми вместе с тем любовался. В «Париже» Золя оставил для них только ненависть и осуждение. Мы видим в романе разложившихся буржуазных политиков, зависящих от финансовых тузов. Они попрали республику, государство, парламент во имя своих эгоистических интересов. Это «буржуазия, все захватившая в свои руки, разжиревшая и, главное, не желающая ничего отдать» («Набросок»). И какой вопиющий контраст составляет по сравнению с жизнью богачей жизнь бедняков, доведенных до отчаяния. Кто же придет им на помощь, где радикальное средство прекратить их страдания? Золя знакомит Пьера с представителями важнейших идейных течений времени. Он сталкивает его с учениками Фурье и Сен-Симона, с последователями Огюста Конта и Прудона, с республиканскими фанатиками, которых преследуют все режимы, в том числе и режим Третьей республики, с последователями социалиста Геда, с анархистами.