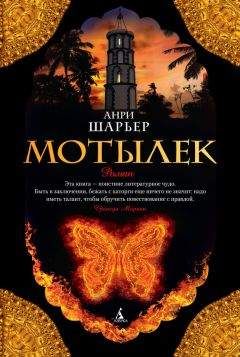Анри Шарьер - Бабочка
Бурсе показал записку, в которой я ему угрожал, и план, который я скопировал. Здесь коменданта даже не пришлось убеждать в справедливости нашей версии. Я спрашиваю, сколько, по его мнению, мне грозит за кражу. Он отвечает:
— Не больше восемнадцати месяцев.
Короче, я постепенно выбираюсь из бездны отчаяния. Получил записку от санитара Шателя. Он сообщает мне, что Бебера Селье поместили в отдельную палату в больнице под предлогом, что у него воспалительный процесс в печени.
Ни в моем карцере, ни у меня ни разу не производили обыск. Я использую это для того, чтобы достать нож. Я предлагаю Нарри и Кенье попросить очной ставки между надзирателем мастерской, Бебером Селье, столяром и мною, после которой комендант сможет принять справедливое решение: кого освободить и на кого наложить дисциплинарные взыскания.
Во время прогулки Нарри говорит мне, что комендант согласен устроить всем встречу. Следователем во время очной ставки будет главный надзиратель. Всю ночь я думаю о том, как убить Бебера Селье. Нет, будет слишком несправедливо, чтобы сначала этого человека поместили за его рвение в больницу, а потом предоставили ему возможность бежать на материк в благодарность за то, что он помешал бежать другим. Да, но ведь меня приговорят к смерти, обвинив в преднамеренном убийстве. Плевать я хочу. Таково мое решение. До какого отчаяния я дошел! Быть схваченным на пороге победы после четырех месяцев надежды, радости, страха, — и все из-за поганого языка какого-то доносчика. Будь что будет! Завтра попытаюсь убить Селье!
Единственная возможность избежать смертной казни — заставить его первым вытащить нож, а чтобы заставить его это сделать, я должен наглядно продемонстрировать ему, что свой нож я держу наготове. И тогда он наверняка вытащит свой нож. Это надо будет сделать перед началом очной ставки или сразу после встречи. Во время самой встречи убивать не стоит, так как один из надзирателей может выстрелить в меня.
Всю ночь я борюсь с этими мыслями, но не могу их одолеть. Бывают в жизни вещи, которых простить никак нельзя. Я знаю, что нельзя вершить самосуд, но это касается людей, находящихся на совершенно иной ступеньке общественной лестницы. Разве можно не наказать столь мерзкое существо? Я ничего дурного этому бывшему солдату не сделал, он меня даже не знает, — как же может он осудить меня на долгие годы заключения? Он хотел похоронить меня с тем, чтобы самому начать жить. Нет, нет и еще раз нет! Я не дам ему этот шанс. Это невозможно. Я чувствую, что я пропал. Пусть же и он исчезнет с лица земли. А если меня приговорят к смерти? Жалко умирать из-за такого ничтожества. Мне удается обещать себе одно: если он не вытащит нож, я его убивать не стану.
Всю ночь я не спал и выкурил целую пачку табаку. До утреннего кофе у меня остались всего две сигареты. Все во мне настолько напряжено, что я прошу раздатчика кофе в присутствии тюремщика:
— Не можешь ты мне дать, с разрешения надзирателя, несколько сигарет или понюшку табаку? Я совершенно обессилен, господин Антартаглия.
— Да, дай ему, если у тебя есть. Я искренне сочувствую тебе, Бабочка. Я, как корсиканец, уважаю мужчин и ненавижу подлость.
В 9.45 утра я нахожусь во дворе, ожидая приглашения в зал. Здесь же Нарри, Кенье, Бурсе и Карбонери. К нам приставлен надзиратель Антартаглия, который разговаривает с Карбонери по-корсикански. Я понимаю, что, по мнению надзирателя, Карбонери грозят три года изолятора. В это время открывается дверь, и во двор входят: араб, который взбирался на кокосовую пальму, араб — сторож мастерской и Бебер Селье. Увидев меня, Селье пятится назад, но сопровождающий их надзиратель говорит:
— Проходите и стойте в стороне, справа. Антартаглия, не позволяй им разговаривать.
Мы стоим в двух метрах друг от друга. Антартаглия говорит:
— Обеим группам запрещается разговаривать друг с другом.
Карбонери продолжает разговаривать по-корсикански со своим земляком, который теперь следит за обеими группами. Тюремщик завязывает шнурок ботинка, и я взглядом предлагаю Матье немного продвинуться вперед. Надзиратель встает. Карбонери без перерыва говорит с ним и настолько отвлекает его внимание, что мне удается незаметно продвинуться на шаг вперед. Я держу нож в руке, который может видеть один лишь Селье. Он реагирует неожиданно быстро. Сильный удар парализует мою правую руку. Я левша. Одним ударом втыкаю ему нож в грудь по самую рукоятку. Звериный вопль: А-а-а! Он падает, словно мешок. Антартаглия говорит мне, держа пистолет в руке:
— Отойди, малыш, отойди. Не бей лежачего, иначе мне придется стрелять в тебя, а я этого делать не хочу.
Карбонери подходит к Селье, носком ботинка притрагивается к его голове, а потом говорит два слова по-корсикански. Я понимаю значение этих слов: «Он мертв». Надзиратель говорит мне:
— Дай мне свой нож, малыш.
Я подаю ему нож, он всовывает пистолет в кобуру, подходит к железной двери и стучит. Тюремщик открывает дверь, и он говорит ему:
— Пришли носильщиков подобрать мертвого.
— А кто умер? — спрашивает тюремщик.
— Бебер Селье.
— А! А я думал — Бабочка.
Нас возвращают в карцер. Встреча отложена. Перед входом в коридор Карбонери говорит мне:
— Несчастный мой Бабочка, на этот раз ты попался.
— Да, но я жив, а он мертв.
Тюремщик возвращается, медленно открывает дверь и говорит мне:
— Стучи в дверь, и я скажу, что ты ранен. Он ударил первым, я видел.
И он снова закрывает дверь.
Надзиратели-корсиканцы великолепны: они либо законченные звери, либо бесконечные добряки — середины не бывает. Я стучу в дверь и кричу:
— Я ранен, я хочу, чтобы меня перевязали в больнице! Тюремщик возвращается с главным надзирателем дисциплинарного отдела:
— Что с тобой? Чего ты шумишь?
— Я ранен, командир.
— А! Ты ранен? А я думал, что он до тебя не дотронулся.
— У меня перерезана мышца правой руки.
— Откройте, — говорит второй тюремщик.
Дверь открывается, и я выхожу.
— Да, мышца действительно здорово перерезана. Наденьте ему наручники и отведите в больницу. Ни в коем случае не оставляйте его там. Сразу после перевязки возвратите сюда.
Мы выходим и встречаем коменданта с еще десятью тюремщиками. Надзиратель мастерской говорит мне:
— Убийца!
Меня опережает комендант:
— Замолчите, надзиратель Бруэ. Бабочка подвергся нападению.
— Не может быть, — говорит Бруэ.
— Я видел это собственными глазами и буду свидетелем, — говорит Антартаглия, — а корсиканцы, господин Бруэ, никогда не лгут.