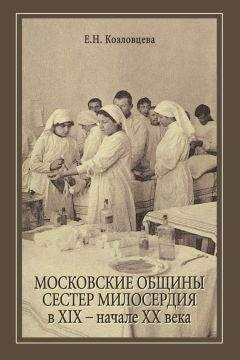Татьяна Варнек - Доброволицы
Очень редко она заходила к сестрам в общежитие, оставаясь там недолго, — вероятно, заходила по обязанности. Зашла как-то и в нашу комнату, когда я играла на рояле в свободные часы после ночного дежурства. Ей понравилась пьеса, которую я играла. Она прослушала и попросила меня сыграть что-нибудь в палате для лежачих раненых (50 человек). Я отказалась играть в палате, так как там находились тяжелобольные, которым, может быть, помешала бы музыка. Согласилась на то, что буду играть у себя при открытых дверях, а дверь нашей комнаты была против двери в палату. Она была сестрой Кауфманской общины в Петрограде, где властвовал очень строгий режим, и оттуда она перенесла полумонашеские правила в наш лазарет, к чему сестры военного времени не приучены. Ее поведение в отношении окружающих объяснялось еще и тем, что она тяжело переживала семейную трагедию Романовых и потому не хотела никакого общения с окружающими, оставалась наедине со своим горем. Но она долго не задержалась в лазарете. Скоро она получила ожидаемую визу во Францию и уехала. Лазарет ей устроил хорошие проводы, все с ней мило простились, она к каждому подходила прощаться. Нам было искренне ее жаль, но тем не менее все вздохнули облегченно.
После проводов сестры Романовой Вавочке было предложено снова занять место старшей сестры, но Вава, задетая, отказалась от такой чести и сделалась палатной сестрой, взяв себе палату больных с переломами ног и рук. Когда мы с Вавой приехали из Ростова, сестра Романова назначила меня в очень тяжелую палату «черепных» — здесь лежали раненные в голову и послеоперационные больные. Нас в этой палате было две сестры — одной было трудно справиться. Помню, в день моего Ангела (11 октября по ст. стилю) я получила от своих раненых поздравительное письмо, подписанное всеми, кто тогда там лежал. Это письмо с немногими документами каким-то чудом сохранилось до сих пор. Чудом потому, что все мои вещи пропали в Лиенце по окончании Второй мировой войны во время ужасной трагедии — насильственной выдачи казаков англичанами советскому командованию[21].
Приехав из отпуска, мы не нашли в нашей комнате Верочки. Нам сказали, что после большого скандала с доктором Кондюшкиным ее перевели в другой лазарет. А дело было так: при семинарии был небольшой сад с аллеями и много кустовых растений. В глубине сада стоял домик, предназначенный для директора семинарии, а когда помещение семинарии было занято под лазарет, то этот домик занял старший врач. Возле домика разбит был небольшой цветник и кое-где стояли скамейки. Там сестры, свободные весь день после ночного дежурства, выходили к вечеру посидеть с книгой в тишине. Так сделала и Вера, но почему-то задержалась в саду и просидела там до темноты. Когда она уже шла в лазарет, то на нее вдруг набросился притаившийся в кустах доктор Кондюшкин. Она оборонялась, расцарапала в кровь его физиономию, а он изорвал на ней блузку. Вера закричала, на крик прибежали санитары и ходячие раненые, которые сидели возле дома со стороны сада, и освободили ее. Санитарное управление приказало доктору Кожину убрать обоих, хотя Вера ничуть не была виновата. Попав в другой лазарет, она переболела сыпным тифом, и однажды я встретила ее на улице с наголо обритой головой. Она сообщила, что вышла замуж и очень счастлива. С тех пор никто из нас ее не встречал и мы ничего о ней не знали.
На место Веры в нашу комнату была поселена сестра-хозяйка. Полненькая, как пышка, средних лет, приветливая. Она приходила в комнату отдыхать днем — или во время нашего отсутствия, когда мы были на работе, или когда кто-нибудь из нас спал после ночного дежурства. Ночевать приходила, когда мы уже спали. Несмотря на симпатию к ней, мы не могли примириться с одним ее недостатком. Она вставала в 4 часа утра и с заведующим хозяйством уезжала за продуктами для лазарета. Второпях при свете свечи (не включала электричество, чтобы нас не разбудить) «наводя красоту», она в полумраке не могла найти полотенце или что-нибудь другое, что ей было нужно, что бы стереть лишнюю пудру или краску с лица, и схватывала у кого-нибудь из нас первую попавшуюся ей в руки вещь — панталоны, лифчик, комбинезон — все, что попадалось под руку. Просыпаясь, мы находили наши вещи испачканными. Стали прятать белье под подушки, но и это не помогало. Она хватала наши белые передники и даже косынки. Не имея возможности поговорить с нею, так как она приходила поздно ночью или днем только в воскресенье, когда нас не было, мы попросили у кастелянши чистых тряпок и положили ей на ночной столик. Дальнейшее употребление нашего белья прекратилось.
Доктор Мокиевский был хороший администратор, очень быстро, по-военному, навел порядок, который не мог поддержать доктор Кожин как штатский человек, не имевший опыта. Лазарет быстро приобрел известность и считался образцовым. Часто лазарет посещали и делали у нас операции проживающие в Екатеринодаре профессор хирург Алексинский, петербургская знаменитость, и его ассистент, доктор Федоров. Профессор делал операции довольно часто. Наши врачи-хирурги имели возможность поучиться у профессора Алексинского, и он во время операций им многое объяснял.
Был такой случай: в лазарет привезли с фронта тяжелораненого офицера, капитана Манштейна, командира какой-то военной части. Ранен он был в плечо. У него началась гангрена. Ампутировали руку — не помогло, гангрена стала распространяться дальше, в лопатку. Рискнули вылущить лопатку, это был последний шанс. Стали лечить, назначили только для него сестру, день и ночь он был под наблюдением врачей, и… случилось чудо — его спасли. Получился кривобокий, но живой. Капитан был очень популярен в войсках и очень боевой. Выздоровев, он вернулся на фронт, к своим. Его часть посылали в самые опасные походы. Красные его боялись и называли «безрукий черт». Его часть посылалась в самые опасные военные операции, и красные разбегались не только при его виде, но и при его имени.
В личной жизни ему не повезло. В Галлиполи я его встретила уже в чине генерала. Когда он женился, я не знаю, но по приезде в Болгарию жена хотела его оставить и требовала развода. Он застрелил ее и себя. Так бесславно закончил свою жизнь этот легендарный боевой генерал. Остался, убитый горем, его престарелый отец — старорежимный генерал.
Приблизился конец 1918 года. Дела на фронте шли удачно. Белые войска продвигались на Москву, все радовались, что скоро будет конец Гражданской войне. Вавочка познакомилась с офицером-летчиком, и вскоре они сообщили мне радостную весть, что они жених и невеста. Я их поздравила, расцеловались. По этому случаю был устроен в нашей комнате вечер с ужином. Присутствовали несколько врачей и вновь назначенная старшая сестра. С другими сестрами у нас контакт был только по работе, так как они держались отдельно от нас и не пытались сблизиться. Большинство из них каким-то образом выбрались из Петрограда, и мы были для них «провинциалками». Они попали в лазарет одновременно с сестрой Романовой. Поэтому никто из них на наше торжество не был приглашен. За ужином было объявлено две помолвки — Вавина с летчиком (имя его забыла) и моя с доктором Мокиевским. Друзья принесли в подарок шампанское; нас поздравили, желали всех благ и кричали «горько!». Вечер прошел весело и непринужденно. Доктор Морозов, уже перешедший средний возраст, худой, всегда серьезный, неразговорчивый, с младшим персоналом надменный, вообще державшийся с достоинством, разошелся так, что пустился в пляс, очень мило острил, рассказывал смешные анекдоты и некоторое время был центром внимания, так что мы не узнавали нашего «буку» — доктора Морозова. Молодой доктор Гинце очень хорошо играл на рояле, и мы наслаждались прекрасной музыкой. Так незаметно пролетело время, и наступил час лазаретной тишины — девять вечера. Наши гости остались, и в разговорах и тишине мы провели еще несколько часов.