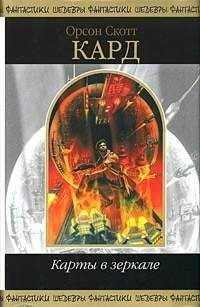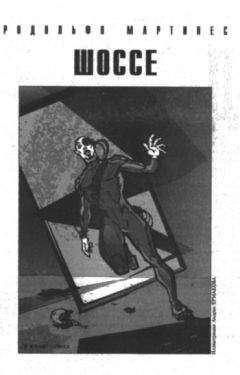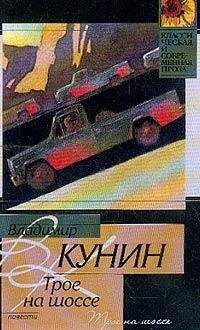Рита Райт-Ковалева - Роберт Бернс
10 июля, вечером, Бернс написал своему брату Гильберту:
«Дорогой брат!
Тебе не очень приятно будет услышать, что я опасно болен и, вероятно, не поправлюсь. Застарелый ревматизм довел меня до такой слабости и аппетит у меня настолько пропал, что я еле держусь на ногах. Уже неделя, как я нахожусь на морских купаньях и пробуду тут или в загородном доме у приятеля все лето. Помоги бог моей жене и детям, если они лишатся меня! Они будут чрезвычайно бедны. У меня есть несколько серьезных долгов, которые я сделал отчасти из-за моей болезни, длившейся много месяцев, отчасти из-за неразумных трат после переезда в город, и эти долги очень скажутся на той мизерной сумме, которую я оставлю семье в твоих руках. Кланяйся от меня матери».
С Гильбертом они в последнее время стали почти чужими. Брат не одобрял вольнодумства Роберта, а тому был неинтересен всегда расчетливый, скучноватый фермер, в которого превратился Гильберт.
Роберт никогда не напоминал ему о долге — о тех деньгах, которые он отдал брату после выхода эдинбургского издания. Вспомнит ли об этом Гильберт, когда Роберта не станет?
Очень коротко Бернс написал в тот же день и миссис Дэнлоп:
«Сударыня, я так часто писал вам, не получая ответа, что не стал бы вновь беспокоить вас, если бы не обстоятельства, в которых я нахожусь. Длительная и тяжелая болезнь, по всей вероятности, очень скоро переправит меня за ту границу, откуда ни один путник не возвращается. Ваша дружба, которой вы дарили меня много лет, была для моей души дороже всех дружб. Ваши беседы и особенно ваши письма были в высшей степени интересны и поучительны. С какой радостью я распечатывал их! При этом воспоминании сильнее начинает биться мое бедное, ослабевшее сердце!
Прощайте!»
Бернс знал, что ему недолго осталось жить. Он, никогда не лгавший другим, не лгал и себе. Он готов был встретить смерть достойно и спокойно. Да и кто знает, когда она придет? Последние два дня так хорошо грело солнце, так мирно плескались волны, что Бернс вдруг почувствовал себя гораздо лучше.
Но 12 июля он получил официальную бумагу, написанную в чрезвычайно угрожающем тоне: один из крупнейших адвокатов Дамфриза сообщал Бернсу от имени своего клиента Вильямсона, что военная форма, заказанная мистером Бернсом в портновской мастерской Вильямсона, а также галуны, кивер, шпага и прочее, приобретенные в галантерейной лавке его же, оцениваются в сумму семь фунтов и шесть шиллингов, каковую сумму мистеру Бернсу предлагается внести незамедлительно, иначе он столь же незамедлительно будет отправлен в долговую тюрьму графства, где и будет содержаться до уплаты долга.
Трясущейся рукой Бернс схватил перо и написал своему кузену Джеймсу Бернсу в Монтроз:
«Милый мой кузен!
Когда ты предлагал мне денежную помощь, я и думать не мог, что она мне так скоро понадобится. Мерзавец лавочник, которому я задолжал значительную сумму, вбив себе в голову, что я умираю, затеял против меня процесс и непременно бросит все, что от меня осталось — кожу да кости — в тюрьму. Не будешь ли ты добр выслать мне — обязательно обратной почтой — десять фунтов? Эх, Джеймс! Если бы ты знал мое гордое сердце, ты бы пожалел меня вдвойне! Увы! Я не привык попрошайничать!..
Еще раз прости меня, что я напоминаю насчет обратной почты. Спаси меня от ужасов тюрьмы!»
...Но что, если кузен не получит письмо вовремя? Может быть, в Эдинбург почта придет скорее, надо просить Томсона — ему можно заплатить песнями:
«После всей моей похвальбы насчет независимости проклятая необходимость заставляет меня умолять вас о присылке пяти фунтов. Ради бога пришлите мне эту сумму обратной почтой... Я прошу об одолжении не даром: как только мне станет лучше, я твердо и торжественно обещаю прислать вам на пять фунтов самых гениальных песен, какие вы слыхали. Сегодня утром я пытался сочинять на мотив «Роусир-мэрч». Но размер так труден, что невозможно вдохнуть в слова настоящее мастерство. Простите меня!
Ваш Р. Бернс».
К письму приложена песня — на труднейшую мелодию старинной баллады.
Эта песня — воспоминание о светлых берегах реки Девон и о Пэгги Чалмерс, его друге.
Он и раньше писал о ней — о цветке Девона, он просил природу щадить и беречь милую, скромную девушку:
Солнце, щади этот нежный, без терний
Алый цветок, освеженный росой!
Пусть из крадущейся тучи вечерней
Бережно падает ливень косой.
Мимо лети, седокрылый, восточный
Ветер, ведущий весенний рассвет.
Пусть лепестков не коснется порочный
Червь, поедающий листья и цвет!..
И в последней своей песне он просит «самую милую девушку с берегов Девона» не хмуриться, улыбнуться ему, как бывало... не слушать наветов... не обижать своего друга напоследок...
Так и кажется, что не девушке написаны эти строки, а самой жизни — милой жизни, с которой так жаль расставаться, хотя она и хмурилась ему чаще, чем улыбалась.
Как драгоценны последние дни человека, о жизни которого пишешь с любовью! Как жаль пропустить хоть одно его слово, хоть одну строчку, как хочется оттянуть страшный час! Но уже отосланы последняя песня Томсону и последнее письмо Джин:
«Дорогая моя любовь! Откладывал письмо, пока не мог сообщить, какое действие оказали на меня морские купанья. Было бы несправедливо отрицать, что боли от них стали легче и я как будто окреп. Но аппетит у меня по-прежнему плохой. Ни мяса, ни рыбы есть не могу. Только кашу и молоко я еще как-то глотаю. Счастлив был узнать из письма мисс Джесси Льюарс, что вы все здоровы. Шлю самый лучший, самый нежный привет ей и детям. В воскресенье увидимся!
Любящий тебя муж Р. Б.».
В воскресенье уехать не удалось: сосед обещал дать двуколку только в понедельник.
Накануне Бернса пригласила к чаю знакомая семья рэтвеллского священника. Вечернее солнце заливало гостиную, освещая бледное до синевы лицо гостя. Молоденькая дочь хозяев хотела опустить штору, но Бернс остановил ее. Она запомнила на всю жизнь, как он печально улыбнулся и сказал:
— Нет, нет, мой друг, не надо... Теперь оно уже недолго будет светить для меня.
Как провел он этот последний вечер перед отъездом домой? Что слышал за окном, кроме всхлипыванья прибоя и свиста ветра? Наверно, и в Брау, как и везде, жила веселая молодежь, пелись песни. Теперь, через два века, можно поручиться, что там, где соберутся шотландцы, — там поют песни Бернса. Их наверняка пели уже и в тот июльский вечер, не зная, кто их сочинил, не подозревая, что у низкого окна, согнувшись от боли, сидит исхудалый человек с глубоко запавшими глазами и слушает то, что он придумал давно, весной, когда стоял в цвету боярышник и заливались птицы: