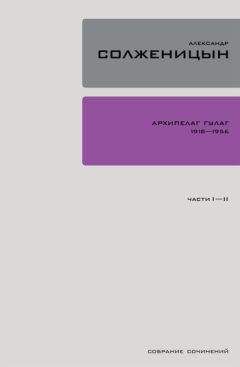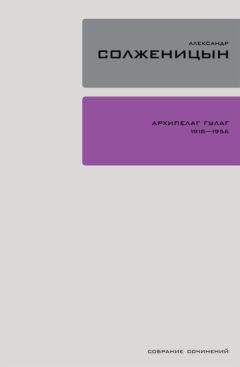Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956: Опыт художественного исследования. Т. 3
Для оставшихся — штрафной режим.
На крышах бараков 29-й шахты появилось много латок из драни — это залатаны дыры от солдатских пуль, направленных выше толпы. Безымянные солдаты, не хотевшие стать убийцами.
Но довольно и тех, что били в мишень.
Близ терриконика 29-й шахты кто-то в хрущёвские времена поставил у братской могилы крест — с высоким стволом, как телеграфный столб. Потом его валили. И кто-то ставил вновь.
Не знаю, стоит ли сейчас. Наверно, нет.
Глава 12
Сорок дней Кенгира
Но в падении Берии была для Особлагов и другая сторона: оно обнадёжило и тем сбило, смутило, ослабило каторгу. Зазеленели надежды на скорые перемены — и отпала у каторжан охота гоняться за стукачами, садиться за них в тюрьму, бастовать, бунтовать. Злость прошла. Всё и без того, кажется, шло к лучшему, надо было только подождать.
И ещё такая сторона: погоны с голубой окаёмкой (но без авиационной птички), до сей поры самые почётные, самые несомненные во всех Вооружённых Силах, — вдруг понесли на себе как бы печать порока и не только в глазах заключённых или их родственников (шут бы с ними), — но не в глазах ли и правительства?
В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату ("за звёздочки"), то есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками, ну и премиальные конечно. Это был большой удар по карману, но ещё больший по будущему: значит, мы становимся не нужны?
Именно из-за того, что пал Берия, охранное министерство должно было срочно и въявь доказать свою преданность и нужность. Но как?
Те мятежи, которые до сих пор казались охранникам угрозой, теперь замерцали спасением: побольше бы волнений, беспорядков, чтоб надо было принимать меры. И не будет сокращения ни штатов, ни зарплат.
Меньше чем за год несколько раз кенгирский конвой стрелял по невинным. Шел случай за случаем; и не могло это быть непреднамеренным.[59]
Застрелили ту юную девушку Лиду с растворомешалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике.
Подстрелили старого китайца — в Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил, все знали его переваливающуюся фигуру — с трубкой в зубах и лицо старого лешего. Конвоир подозвал его к вышке, бросил ему пачку махорки у самого предзонника, а когда китаец потянулся взять — выстрелил, ранил.
Такой же случай, но конвоир с вышки бросил патроны, велел заключённому собрать и застрелил его.
Затем известный случай стрельбы разрывными пулями по колонне, пришедшей с обогатительной фабрики, когда вынесли 16 раненых. (А ещё десятка два скрыли свои лёгкие ранения от регистрации и возможного наказания.)
Тут зэки не смолчали — повторилась история Экибастуза: 3-й лагпункт Кенгира три дня не выходил на работу (но еду принимал), требуя судить виновных.
Приехала комиссия и уговорила, что виновных будут судить (как будто зэков позовут на суд, и они проверят!..). Вышли на работу.
Но в феврале 1954 года на Деревообделочном застрелили ещё одного — «евангелиста», как запомнил весь Кенгир (кажется: Александр Сысоев). Этот человек отсидел из своей десятки 9 лет и 9 месяцев. Работа его была — обмазывать сварочные электроды, он делал это в будке, стоящей близ предзонника. Он вышел оправиться близ будки — и при этом был застрелен с вышки. С вахты поспешно прибежали конвоиры и стали подтаскивать убитого к предзоннику, как если б он его нарушил. Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. (Всё это время близ зоны Деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева-Бородавки, названного так за бородавку на левой щеке. Капитан Беляев был энергичный садист, и вполне в его духе было подстроить всё это убийство.)
Всё в зоне взволновалось. Заключённые сказали, что убитого понесут на лагпункт на плечах. Офицеры лагеря не разрешили. "За что убили?" — кричали им. Объяснение у хозяев уже было готово: виноват убитый сам — он первый стал бросать камнями в вышку. (Успели ли они прочесть хоть личную карточку убитого? — что ему три месяца осталось и что он евангелист?…)
Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идёт не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулемётчики, готовые к стрельбе (уже кенгирцам известно было, что — слишком готовые…). Пулемётчики дежурили и на крышах конвойного городка.
Это было опять всё на том же 3-м лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый, но наросло чувство незащищённости, обречённости, безвыходности: вот и год уже почти прошёл после смерти Сталина, а псы его не изменились. И не изменилось вообще ничто.
Вечером после ужина сделано было так. В секции вдруг выключался свет, и от входной двери кто-то невидимый говорил: "Братцы! До каких пор будем строить, а взамен получать пули? Завтра на работу не выходим!" И так секция за секцией, барак за бараком.
Брошена была записка через стену и во второй лагпункт. Опыт уже был, и обдумано раньше не раз, сумели объявить и там. На 2-м лагпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники, и у многих сроки шли к концу — однако они присоединились.
Утром мужские лагпункты — 3-й и 2-й — на работу не вышли.
Такая повадка — бастовать, а от казённой пайки и хлёбова не отказываться, всё больше начинала пониматься арестантами, но всё меньше — их хозяевами. Придумали: надзор и конвой вошли без оружия в забастовавшие лагпункты, в бараки, и, вдвоём берясь за одного зэка, — выталкивали, выпирали его из барака. (Система слишком гуманная, так пристало нянчиться с ворами, а не с врагами народа. Но после расстрела Берии никто из генералов и полковников не отваживался первый отдать приказ стрелять по зоне из пулемётов.) Этот труд, однако, себя не оправдал: заключённые шли в уборную, слонялись по зоне, только не на развод.
Два дня так они выстояли.
Простая мысль — наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно, полковник из Караганды с большой свитой: "Долго думаете волынку тянуть?"[60] И наугад, никого не зная тут, тыкал пальцем: "Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!.. Ты! — выходи!" И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на «волынку». Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику: "И я пойду!" — "Иди!" — охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверно, что это был — протест, и против чего тут можно было протестовать.