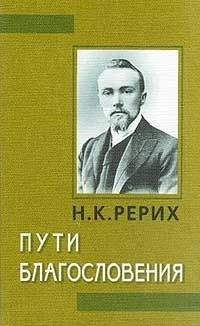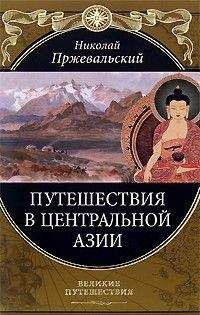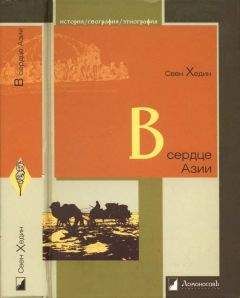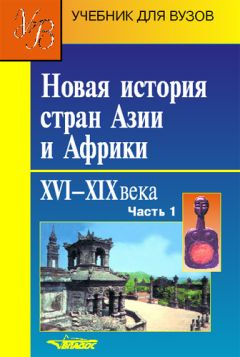Николай Рерих - Шамбала. Сердце Азии
Например, для чего власти всячески препятствовали нашим сношениям с Америкой и вернули неотправленные телеграммы, тогда как всем известно, что через Кашгар и через английского и русского консула всегда можно сноситься? Местные люди нас сразу предупреждали не верить властям. И на наш вопрос «почему?», ибо мы ничего худого не сделали, местные бородачи твердили: «А потому, что они дураки». Но ведь и в действиях отъявленного глупца есть же какой-то, хотя бы извращенный, смысл. Значит, здесь скрывается не одна гдупость, а также и преступность.
Пришла телеграмма из Нью-Йорка: «Министр Америки действует».
Кончим страницей того Китая, который мы не видели. «Наконец желтый повелитель, Солнце Неба, победил дракона земли и мрака. Но гигант в своей агонии ударил головою в солнечный свод и разбил на куски купол голубого нефрита. Звезды потеряли гнезда свои, и луна блуждала без цели посреди раскинутых осколков ночи. В отчаянии повелитель повсюду искал, кто бы мог восстановить небеса. Он не напрасно искал. Из восточного моря поднялась владычица, божественная Ниука, сверкающая в своем доспехе пламени. Она спаяла пять цветов радуги в своем волшебном горне и восстановила небеса». Так помнит Дао.
Не забудем цветочную пыль Японии, которую мы еще не видали: Камио[413], владычица Нары, пела: «Если я сорву тебя, моя рука тебя осквернит, о цветок! Таким, каким вижу тебя на груди луга, таким я посвящаю тебя буддам прошлого, настоящего и будущего».
И еще страница истинного Востока, посвященная Матери Мира: «Покрывшая лик свой. Соткавшая пряжу дальних миров. Посланница несказанного. Повелительница неуловленного. Дательница неповторенного!
Твоим приказом океан замолкает и вихри черты невидимых знаков наносят… Она, лик покрывшая, встанет на страже одна, в сиянии знаков. И никто не взойдет на вершину. Никто не увидит сияние двенадцатизначника[414] ее мощи. Из спиралей света знак соткала сама в молчании. Она водительница идущих на подвиг. Четыре угла, знак Утверждения, явлен ею напутствием решившимся…
Приказ безмолвный, всепроникающий, неотменный, неделимый, неотвергаемый, ослепительный, щедрый, неописуемый, неповторяемый, неповрежденный, неизреченный, безвременный, неотложный, зажигающий, явленный в молнии»[415].
Глава 8. Такла-Макан – Карашар[416] (1926)
27 января 1926 года.
Тимур-бай – наш новый караванщик. Куда ни оглянешься – всюду какие-то исторические имена. И все шахи, султаны, баи. Даже самый незаметный и тот прибавляет себе – ахун. Приходит взвешивать наши вещи. Устройство весов переносит во времена неолита. На перекладине висит палка с какими-то «магическими» кружками и метками. Массивный зеленый кусок нефрита на веревочке передвигается в противовес сундука, и «маг» в круглой шапочке изрекает цифру, ему одному очевидную. Положительно, в неолите мы находили такие камни с дырками и называли их грузилами, но, вернее, это гири.
Нам нужно на восток, и потому завтра идем на запад. Остановки до Кашгара: 1) Зуава, 2) Пиалма, 3) Зангу (Чуда), 4) Гума, 5) Чолак, 6) Акин, 7) Каргалык, 8) Фоскан, 9) Яркенд, 10) Кокрабат, 11) Кизил, 12) Янгигисар, 13) Яборчат, 14) Кашгар.[417]
Наши друзья калмыки уже вчера прошли мимо нас по краткому пути на Аксу – Карашар. В темноте рассвета мимо наших ворот звенели басистые колокола их верблюдов. Они повезли Таин-ламе ковры из Хотана.
Опять в нашем караване будет три течения: буддистское, мусульманское и китайское. Последнее – слабее. Последнее изобретение Цай Хань-чена – знамя экспедиции с крупной надписью «Ло (Рерих)», т. е. «набат», – водружено на ярко-красное древко. Цай Хань-чен отвез наши карточки властям, и, как следовало ожидать, мошенники даотай и амбань уверяли, что они нам очень помогли…
Пришли мафы для ламы и Цай Хань-чена. Ясно, что эти экипажи не изменили вид с XV века и годились бы в любой музей. Худайберды-бай привез дастархан в виде жареного барана и пирожков. Так он и остался нашим единственным другом в Хотане. Впрочем, еще полковник китайский понял, что вышло нечто плохое. Опять вьюки. Опять мохнатые шапки. Опять яростный рев Тумбала. Утром в путь. Последний раз прилетели к нам хотанские птички и пришли бараны. Тумбал, как черная статуя, застыл на груде яхтанов.
28 января.
С семи утра собирали караван. Видели мы работу тибетцев – отличная была работа, спешная, энергичная. Хуже работа дардистанцев и кашмирцев. Хороша работа ладакхцев, но хуже всего работа хотанцев. Такую лень и неприспособленность трудно представить. С семи до двенадцати с трудом навьючили сорок лошадей. Шли по Хотану и еще раз убедились, что все, что носит признаки старого Хотана, не так было плохо и являет остатки резьбы, каких-то украшений и пропорций. Но все новое превратилось в бессмысленную груду глины и жалких кольев. Лица на базаре попадаются неплохие, но забитые и лишенные всякого выражения.
Ясно, что места, подобные Хотану, изжили все свои старые соки и могут обновиться лишь коренным потрясением. Китайцы сидят за глиняными стенами китайского города. [Единения] с населением у них нет. Они остались случайными пришельцами, угнетателями и не думают помочь стране хотя каким-нибудь улучшением. Запылилась жизнь, запылились мозги. Нужна искра сильной молнии.
Вдали мелькнул силуэт светло-серого Куньлуня. Щемяще удаляться от этого замечательного хребта. Щемяще знать, что Гималаи удаляются. Сознание новых приближений зовет обернуться к Востоку.
Опять стража из пяти солдат. Неизвестно, мы ли их стережем или они нас. Каракаш замерзла, и лошади разбивают легкий ледок. Утро студено, но в середине дня солнце уже печет. На ветках почки. У дороги сидят серенькие хохлатые жаворонки. Проехали 9 дорожных башен. Опять Зуава. Цай Хань-чен говорит, улыбаясь беззубым ртом: «Даотай Хотана думает, что мы опять вернемся в Хотан. Такой глупый офицер».
Но теперь всякие соображения о глупых офицерах от нас далеки. Ведь мы опять в пустыне. Опять вечерние пески, лиловые. Опять костры. Караван с вещами сильно запоздал, и мы сидим налегке, как будто и не бывало этих вещей, которые так усложняют всю жизнь. На песке – пестрые кошмы. Веселые языки пламени красно и смело несутся к бесконечно длинным вечерним тучам. Вечером в Зуаве оказалось, что приставленный к нам бек и офицер накурились опиума. Юрий просил Цай Хань-чена выговорить им. Тот говорит, конечно, «это очень дурно, но главному покровителю опиума в Калькутте поставлена статуя[418] на коне. Англичане нас приучили к этому яду». И свет луны, и тишина ночи опять наполнились человеческим ядом…