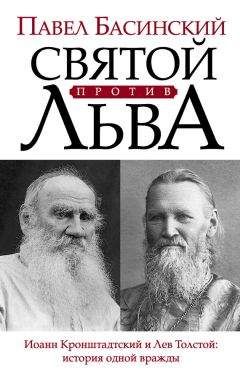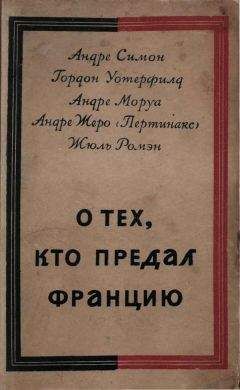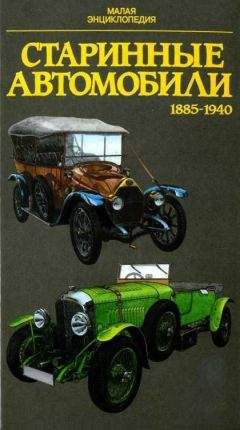Павел Басинский - Лев Толстой: Бегство из рая
24 марта. «Два раза с женой начинал говорить – нельзя».
31 марта. «Остался один с ней. Разговор. Я имел несчастье и жестокость затронуть ее самолюбие, и началось. Я не замолчал. Оказалось, что я раздражил ее еще 3-го дня утром, когда она приходила мешать мне. Она очень тяжело душевно больна».
24 апреля. «Отчего я не поговорю с детьми: с Таней? Сережа невозможно туп. Тот же кастрированный ум, как у матери. Ежели когда-нибудь вы двое прочтете это, простите, это мне ужасно больно».
26 апреля. «Пошел в книжные лавки, но не доехал, никто в конке не разменял 10 р. Все считают меня плутом. Вернулся, один обедал… Ходил в лавку, зачем-то купил сыру и пряников. Как во сне – слабость… Дома разговаривал с m-me Seuron (гувернантка. – П.Б.) и Ильей. Он искал общения со мной. Спасибо ему. Мне было очень радостно. Потом приехали наши. Мертво».
3 мая. «…нашел письмо жены. Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души – ужасно не только тяжело, больно, но трудно. Помоги же мне!»
4 мая. «Господи, избави меня от этой ненавистной жизни, придавливающей и губящей меня. Одно хорошо, что мне хочется умереть. Лучше умереть, чем так жить».
5 мая. «Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно всё стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть!»
6 мая. «Дома треск Кислинских. Тоска, смерть».
Весной они, как обычно, возвращаются на лето в Ясную Поляну. Но и тут Толстому нет радости.
28 мая. «Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело. Всё, что я делаю, дурно, и я страдаю от этого дурного ужасно. Точно я один несумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими».
18 июня 1884 года Толстой отправился косить траву у дома, потом – купаться на пруд. Вернулся бодрый и веселый. Вдруг начались упреки жены за самарских лошадей, которых он завел, а теперь от них одни убытки, их поморили, и вообще он хочет от них избавиться. Спор принял злобный, истерический характер. Толстой ушел в кабинет, собрал котомку, с которой он ходил пешком в Оптину пустынь, и пошел по «прешпекту» вниз. Жена догнала его и спросила: куда он идет? «Не знаю, куда-нибудь, может быть, в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома!» – кричал он со злобой и слезами. С.А. напомнила, что она беременна и ей вот-вот рожать. Он всё прибавлял шагу и скоро скрылся.
С половины дороги на Тулу он вернулся. «Дома играют в винт бородатые мужики – молодые мои два сына», – с неприязнью пишет в дневнике. Спать пошел в кабинет на диване. В 3-м часу ночи жена разбудила его. «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Ночью родилась их дочь Саша.
Ни отец, ни мать не были этому рады.
Глава шестая
Милый друг
Отъезд Толстого из Шамордина ранним утром 31 октября удивительно точно повторяет его бегство из Ясной тремя днями ранее.
Те же самые свидетели и соучастники события Саша, Феокритова и Маковицкий должны были испытать чувство déjà vu, когда бледный, взволнованный и решительный Толстой внезапно разбудил их в гостинице в начале 4 утра.
«В начале 4-го ч. Л.Н. вошел ко мне, разбудил; сказал, что поедем, не зная куда, и что поспал 4 ч. и видел, что больше не заснет (и поэтому) решил уехать из Шамордина утренним поездом дальше. Л.Н. опять, как и под утро перед отъездом из Ясной, сел написать письмо Софье Андреевне, а после написал и Марии Николаевне. Я стал укладывать вещи. Через 15 минут Л.Н. разбудил Александру Львовну и Варвару Михайловну», – пишет Маковицкий.
Та же последовательность действий. Те же лица. Та же самая атмосфера. Глубокая ночь, переходящая в раннее утро. Полная темнота и тишина. Кроме беглецов, в монастырской гостинице не было ни одного постояльца. Та же внезапность решения Л.Н., который накануне вечером даже не простился с сестрой. Покидая ее келью, он оставлял Марию Николаевну в святой уверенности, что на следующий день они встретятся вновь. Те же, незадолго до бегства, переговоры с крестьянами о найме дома. В первом случае это был крестьянин Михаил Новиков, а во втором – вдова Алена Хомкина из деревни Шамордино.
И наконец, самая главная и пугающая общая деталь: полная неопределенность в вопросе: куда же они, собственно, едут? Как в Ясной Л.Н. не говорил своим близким, куда он в точности направляется, так и в Шамордине он как будто скрывал от них это.
Может возникнуть странное подозрение, что он сознательно сбивал их с толку, не позволял опомниться, деспотически подчинял их своей воле. Именно так ведут себя старцы, ошеломляя своих учеников самыми неожиданными послушаниями, не объясняя им значения тех или иных своих слов и поступков, порой диких и даже кощунственных на первый взгляд. Стать юродивым было сокровенной мечтой Толстого. Так не пытался ли он во время ухода испытать эту модель поведения в действии?
Но от этой версии придется отказаться. В поведении Толстого в Шамордине чувствуется еще меньше уверенности, чем во время ухода из Ясной. Но главное, как и в Ясной, здесь незримо присутствует пятый человек – С.А. Она-то, собственно, и руководит всеми эксцентрическими поступками Толстого. Причем делает это не только против своей воли, но и не догадываясь об этом.
С.А.-то как раз желает обратного: остановить мужа, удержать возле себя. Но все ее поступки вызывают прямо противоположный эффект: Толстой срывается с места и бежит. Если бы она в то время могла учитывать прекрасно известное ей корневое свойство натуры своего мужа, его яростное внутреннее сопротивление всякому внешнему насилию, она, конечно же, повела бы себя как-то иначе. Но обсуждать, а тем более осуждать поведение С.А., во-первых, аморально, а во-вторых, бессмысленно.
Обследовавший ее сразу после бегства Толстого психиатр П.И. Растегаев дал хотя и осторожное, ввиду кратковременности обследования, но всё же вполне определенное заключение, что С.А. «страдает психопатической организацией (истерической)», а это «под влиянием тех или иных условий может представлять такие припадки, что можно говорить о кратковременном преходящем душевном расстройстве».
Факт есть факт. Толстой и в Ясной, и в Шамордине панически боялся своей жены, вернее, боялся внезапной встречи с ней. В Ясной боялся, что она проснется и станет свидетелем бегства. В Шамордине боялся ее внезапного приезда, возможность которого он уяснил из ее письма и писем детей. «Отец остался бы в Шамордине, – вспоминала А.Л. Толстая. – Он уже на деревне присмотрел себе квартиру… Но привезенные мною известия и письма встревожили его. Мы сидели в теплой, уютной келье тети Маши и разговаривали. Отец молча слушал. И вдруг, упершись руками на ручки кресла, быстрым движением встал и ушел в соседнюю комнату. Видно было, что он принял какое-то твердое решение».