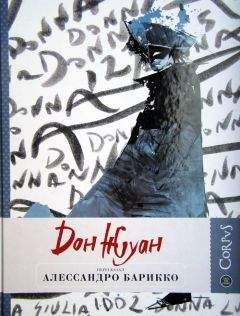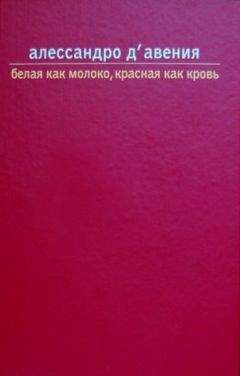В погоне за звуком - Морриконе Эннио
Уже в первых архаических сообществах, обладающих лишь устной традицией, поскольку письменности еще не было, сообщение, которое люди хотели передать друг другу, должно было быть легко запоминающимся и общедоступно. И постоянно повторяющийся ритм или мелодия оказались наиболее подходящими для этой цели. Иногда все строилось вокруг повторения всего лишь двух звуков… и только-то.
Возьмем, например, бас таким, каким он предстает в африканской музыке, и сравним с тем, что звучит в так называемой ультрасовременной – тут-то и проступает концепция минимализма, которую, как я уже говорил, я считаю одной из древнейших, несмотря на новомодное название. В ней заложен максимум примитивного и максимум того, что дала эволюция. Такой странный замыкающийся круг истории кажется мне удивительным открытием. Но еще удивительнее те, кто пишет такую музыку: кому-то это удается прекрасно, кому-то не так хорошо.
– А кто из композиторов-минималистов тебе нравится?
– Среди моих любимых авторов-минималистов конечно же Джон Адамс. Ему удалось соблюсти меру, необходимую в минимализме, и вместе с тем предложить, по крайней мере в тех композициях, которые я слышал, что-то новое: технику, фантазию, связать западную традицию с африканской архаикой. А вот Гласс в этом смысле мне кажется каким-то более неповоротливым, в нем не чувствуются все эти перемены. У Наймана иной раз получается что-то очень симпатичное, а иногда я остаюсь равнодушен к его произведению. Райх тоже хорош.
– А себя ты не причисляешь к минималистам?
– Скажем так: пока я шел по долгому извилистому пути своей профессии, мне приходилось сталкиваться и с минимализмом.
– Кажется, ты задумал «Четвертый концерт» таким солидным, бесстрастным, словно противопоставляя его «Третьему». В его названии появляется цитата из Горация – «Это желание мое». Поэт написал эти стихи, когда получил от Мецената виллу Сабина. Тебе тоже подарили виллу?
– Нет, не дарили. (Улыбается.) Это название на латыни – посвящение «Институционе Университариа деи Кончерти» (IUC) на их пятидесятилетие. Концерт был написан по заказу этой организации. В 1993 году я еще не состоял в их руководстве. Помню, как мне позвонила Лина Буччи Фортуна, тогда президент Институционе, и сказала: «Маэстро, заходите к нам, у нас есть для вас предложение». Мы долго говорили по телефону, и она рассказала, что у них в планах – концерт моей абсолютной музыки.
Знаешь, у них было принято ежегодно организовывать тематические концерты, посвященные творчеству одного из крупных современных композиторов: Петрасси, Клементи, Ноно, Берио, Мадерна и так далее. Я был совершенно не готов к такому повороту. «Вы, должно быть, ошиблись номером», – ответил я. «Нет, ни капельки, – последовал ответ. – Сегодня вы очень востребованный композитор». Как во сне, я согласился.
Именно после этого вечера, оказавшегося очень успешным – дирижировал Антонио Баллиста, мне заказали «Четвертый концерт», с которым я несколько лет назад был в Оперном театре Будапешта. Солистами выступили Джорджо Карнини (орган), Мауро Маур и Сандро Верцари (трубы).
– 15 ноября 1994 года «Четвертый концерт» был впервые исполнен оркестром и хором римского Оперного театра под руководством Флавио Эмилио Сконья в центральной аудитории Университета «Сапиенца» по случаю открытия пятидесятого сезона Институционе (IUC). Концерт посвящался как самой организации, так и ее президенту Лине Буччи Фортуне…
– А также органисту Джорджо Карнини, с которым мы каждое воскресенье добрые десять лет встречались на концертах в Санта Цецилия, он долго просил меня написать что-то для органа и оркестра. Мы с ним даже сидели рядом.
И вот я решил: «Черт побери, десять лет – это не шутка. Пора приняться за дело!» Случаю было угодно, что именно в это время мне подоспел этот заказ, так что я решил одним разом выполнить две просьбы и воплотить их в «Четвертом концерте». Я посвятил его Джорджо за его удивительное терпение.
Сначала у меня в голове возник образ огромного органа, главного героя концерта, потом я подумал, что если он будет в центре, то по обоим краям будут хорошо смотреться две трубы и два тромбона. Это симметрическая композиция: труба и тромбон слева и справа, обрамляя орган. Оркестр же окружает их полукругом.
– В нашей культуре орган сразу ассоциируется с церковью, с ритуалом…
– Да, и поэтому я представлял себе венецианский собор Святого Марка, где хоры расположены по обеим сторонам… Я написал третью часть концерта слишком сложной для органиста…
– Ты специально издевался?
– Да, я хотел, чтобы он ошибся. «Просил для органа – так получи!» – как бы говорил я. Помню, как я раскрасил разными цветами определенные места партитуры, чтобы не забыть о постоянной смене регистров, так что на концерте в Будапеште очень опытный помощник органиста только ими и занимался. Я писал для органа так, словно это электронный инструмент. Так что тембр в некоторых местах вовсе не похож на орган. 9/16 – очень быстрый, сложнейший для органа темп, но Джорджо отыграл все безукоризненно. Правда, как раз на том самом концерте в Будапеште он допустил небольшую ошибку в начале второй части, которая, в отличие от третьей, проще простого.
– Раз уж мы об этом заговорили, признаюсь, что «Четвертый концерт» стал для меня открытием со многих точек зрения. Я сразу обратил внимание на замысел «звучащей скульптуры», как ты это называешь.
Уже с первого прослушивания мне показалось, что музыкальная грамматика теряет здесь свое привычное значение. Формальная связь на всех уровнях структуры произведения, его сущность складываются, кажется, именно из тембра и жеста. Слуху хочется зацепиться за смысл, которого там нет, он дистанцируется, и тогда начинает проступать материя композиции, так сказать, мрамор; само собой, это исключительно мои личные ассоциации.
Когда я слушал концерт первый раз, мне показалось, что тембр инструмента отсылает нас к чему-то древнему, доязыковому, тому, что было до лингвистики как таковой… Так слушают голос, не слушая слов, – только тембр, тон. Но углубляясь в произведение, я понял, что без жеста этот тембр оказался бы статичен, мертв – а то, что я слышал было живо, то была материя в движении и напоминало песочный торнадо. Так я пришел к выводу, что у тембра и жеста были две разные функции: первый отсылал нас к Бытию, к чему-то, что равно себе во времени и пространстве, второй же открывал возможность движения, изменения, становления.
«Четвертого концерта» это касается еще больше, чем «Тотема Второго», «Вынашивания» или «Vidi Aquam», если называть только те произведения, о которых мы говорили. Мне на секунду показалось, что именно в этом повышенном внимании к тембру, в этом поиске связи между тембром и музыкальной материей и есть суть твоей абсолютной музыки. Тембр есть абсолютный парадокс, парадокс абсолютного, парадокс, неотъемлемый от самого абсолюта.
– Если задуматься над тем, что именно отличает одного композитора от другого, то я бы как раз говорил о тембре. Однако к понятию тембра сразу же присоединяются другие параметры: использование инструментов, привычки, «слабости», любимые приемы, приемы, которых композитор избегает, и, в общем, весь его образ мысли. Я всегда считал очень важным поиск тембра, во всех моих произведениях я старался его подчеркнуть. Иной раз я отчаянно добивался нужного тембра даже в аранжировках, затем в музыке для фильмов, каждый раз стараясь отыскать ключик к своему слушателю и пытаясь удовлетворить собственные потребности в самовыражении: достичь узнаваемости тембра, который бы мог поразить слух.
А вот недавно мне пришлось пойти совершенно иной дорогой. Работая над «Лучшим предложением», а именно над фоном к композиции «Лики призраков», где переплетаются голоса, я в некотором роде поставил под сомнение тембр, обработав звучание инструментов электронными средствами. Вместе со звукотехником Фабио Вентури мы удалили атаку звуков. Если таким образом воздействовать на звуковую волну, удалив первые доли секунд звучания, тембр инструмента становится неузнаваем. Я написал аккорд для электрогитары, на которой Рокко Дзиффарелли играл медиатором, предусмотрительно поворачивая ручку громкости и задействуя потенциометр.