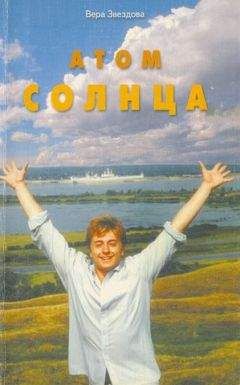Лидия Лебединская - С того берега
В дверь коротко стукнули, и тотчас на пороге явился полный и рыхловатый блондин с добрым и немного вялым лицом. Очень были хороши глаза: живые, чистые, пристальные.
— Разрешите? — спросил он и щелкнул по-военному каблуками штатских ботинок. — Подполковник в отставке Постников прибыл по вашему приказанию.
Филиппеус улыбнулся широко и гостеприимно, встал и протянул руку.
— Здравствуйте, господин Романн, здравствуйте, милый Карл, входите, усаживайтесь. Уже, значит, вживаетесь в свою роль? Прекрасно. Прекрасно, господин Постников. Не позволите ли просто по имени-отчеству вас?
— Николай Васильевич, к вашим услугам. — Постников тоже улыбался приветливо, непринужденно опускаясь в кресло.
Они закурили, с симпатией глядя друг на друга.
— Интересная вам предстоит работа, Николай Васильевич, и я душевно этому рад, — заговорил Филиппеус, — а то ведь иначе скучно жить на этом свете, господа, как сказал ваш тезка.
Постников улыбался и молчал почтительно. Филиппеус продолжал, посерьезнев:
— Значит, приступим к обсуждению. Подполковник в отставке, с деньгами, скучая на досуге и странствуя по Европе, будучи наслышан о весьма интересном архиве покойного князя Долгорукова, порешил сделаться издателем и предать часть бумаг тиснению. Для чего и хотите купить архив целиком, чтобы выбрать материалы по вкусу. Не так ли?
Постников коротко кивнул головой. Филиппеус взял лист бумаги, расчертил его на четыре части и написал вверху четыре фамилии. Говорил он, глядя на бумагу, изредка поднимая взор на собеседника:
— Итак, против кого вы играете. Наследник-распорядитель, одновременно и хранитель бумаг некто Тхоржевский. Обрусевший поляк, человек недалекий и добродушный, разум свой и душу давно вверивший Герцену. Так что он, пожалуй, не в счет, с Герцена и начнем. Превосходно воспитан и очень ценит это в других. Нынче тяжело болеет и, кажется, весьма не в духе. Ходят слухи, что скуповат и прижимист. Не думаю, это болтает о нем досужая и мелкая эмигрантская шушера, которую он не хочет кормить из своего кармана, поступая, кстати, весьма разумно и справедливо. Расчетлив, однако, вне сомнения. Читывали его письма, они полны колонок расхода и прихода. С ним, я думаю, надежней всего говорить о том, что вы собираетесь некий барыш извлечь, кроме удовольствия повариться в пыли старых анекдотов и сплетен, коими полон, как говорят, архив князя. Герцен понимает и разделяет такового рода интересы. Заупрямится, только тогда упирайте на пользу отечеству. Он слишком умен, чтобы верить в идеальное бескорыстие.
Постников засмеялся и тут же умолк.
— А откуда, — спросил он быстро и живо, — легенда, что у них с Огаревым будто есть список всех российских шпионов, да еще с приметами?
— Болтовня, — поморщился Филиппеус. — Не раз бывали у них наши коллеги, да и тот процесс семилетней давности — наглядный пример. Кроме двоих, действительно раскрытых. Но те пустельги и случайные люди. Сами, кстати, предложили свои услуги. Легенда оттого, возможно, и возникла, что десять лет мы проявляли полное бессилие. А что могли сделать? Будь высочайшее указание, убрали бы обоих за день. С литературой ихней ничего не могли сделать, это правда. Но ведь, батенька, человека же грамотного в России не было, чтоб не читал. И везли все, кто ездил. Всем хотелось просветиться. Однако видите же: успокоились.
— Вот об этом я тоже хотел вас расспросить, — сказал Постников. — Отчего сник журнал? И не возобновится ли?
— Желаете принять участие? — быстро и насмешливо спросил Филиппеус, прикуривая папиросу прямо от еще тлевшей.
Постников смотрел на него прямо и без улыбки.
— Извините, Карл, — примирительно сказал Филиппеус. — Извините, Николай Васильевич. Честное слово, я не хотел ни на что старое намекать и ни о чем предупреждать. Я сейчас вам подробнейше на это отвечу.
И помолчал, чуть губы выпятив и уставившись в стол. А когда поднял голову, глаза его посмеивались и тон был доверительный:
— Мне так представляется, что они попросту себя изжили. Им хотелось гораздо большего, чем самим россиянам, и, пока стремления совпадали, журнал читался, расходился, главное же — им писали. Ибо будь Искандер или Огарев хоть семи пядей во лбу, а без корреспонденции отсюда недолго бы они существовали. Где начало упадка? Думаю, еще в шестьдесят первом. Россия освобождение приняла, значит — подуспокоилась, а они все бьют в свой колокол. Дальше — больше. Пожары, сплочение. А тут — Польша. Кому было просто наплевать, что полячишек ногой давят, кто злорадствовал, а кто и просто считал, что все правильно и нечего пытаться от России отделиться. Вся Россия заодно против, только двое горячо и безоговорочно за полячишек: Искандер и Огарев, Огарев и Герцен. Кстати, я упрямое их благородство еще отчасти понимаю как безвыходность: им ведь поляки помогали типографию ставить. Ну, промолчали бы. Так ведь нет, какой крик подняли, за вашу и нашу свободу, пока один раб теснит другого, он и себя не освободит!
— Значит, если я вас правильно понял, всем в России надо было гораздо меньше послаблений, вольностей и льгот, чем хотели и хотят лондонцы, — они как бы забежали вперед, и отсюда их разрыв с обществом, и от них отчуждение? Так ведь?
Филиппеус кивнул головой утвердительно и прикурил еще одну папиросу.
— Не позволите ли мне тогда еще одну мысль добавить, — медленно продолжал Постников, — оговорясь заранее, а точнее — заручившись кивком вашим, что вы в моей преданности престолу и отечеству не сомневаетесь…
— Я уже заверил вас в этом. — Филиппеус сказал это очень сердечно и недоуменно пожал плечами. — Иначе ведь, согласитесь, Николай Васильевич, для такого доверительного поручения…
— Хорошо, — сказал Постников. — Хорошо. Я сердечно благодарен и выскажусь с полной искренностью. Просто я подумал, что уже не разрыв, а вражда должна быть к ним сейчас у самых что ни на есть отъявленных вольнолюбцев.
Филиппеус поднял брови чуть. Постников продолжал:
— Россия на всем, что даровал ей самодержец, благодарно успокоилась. Для России перемены небывалые — можно вздохнуть и жить. А тут — пожары, потом — поляки, через три года — Каракозов. Как не возникнуть простому человеческому страху: вдруг осердится самодержец? Вдруг отменится все, что даровали? И на этом фоне два борзописца в прекрасной безопасности предлагают объединяться в тайные общества, готовиться к смуте. Такой, простите меня, звон ничего не может вызвать, кроме здорового раздражения. Так ведь?
— Справедливо до банальности, — осторожно откликнулся Филиппеус.