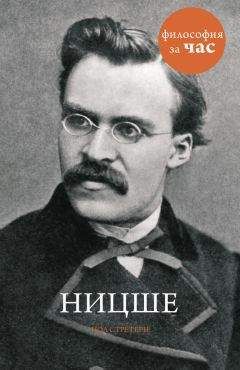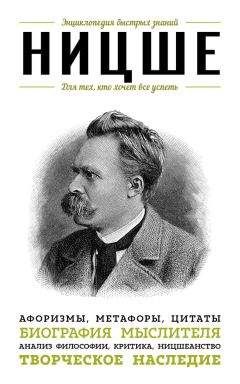Лу Саломе - Мой Ницше, мой Фрейд… (сборник)
Тем самым решается и вопрос, как привести к соглашению религиозные разногласия между анализандом и аналитиком: собственно, совершенно никак. Чем более добросовестно они идут в совместной работе к цели оздоровления, тем определеннее они стоят на одной почве, и значение таких вопросов отпадает. В жесткости или сухости блуждания по жизни, как бы далеко оно ни уводило в раздельные направления, они все же утоляют свою жажду из одного источника, – подобно тому, как животные пустыни на рассвете и в вечерних сумерках встречаются на одном краю оазиса.
VIIТам, где в процессе веры наивно-поэтически встают образы из религиозного, он граничит с процессом творчества искусства из первоначальной стадии двух этих процессов, которая содержит их в себе еще неспецифицированными, слитыми воедино со всеми видами человеческого задействования; точно так же, как искусство со своей стороны граничит с магией и религией – своего рода заклинание того, властителями чего мы себя считали. Искусство в уже отделенном от этого смысле возникает только как заменяющее творение нашей безропотности перед такими магическими силами – в отказе от такого влияния на окружающую действительность, предстает как вторая действительность наряду с сохраняющейся первой. Всем произведениям искусства мы приписываем впечатления, которые не можем получить от внешней реальности, и которые, тем не менее, опосредуют нам нечто, что кажется объективно обоснованным, не просто субъективно приложенным. Ведь именно это в философских системах позволяет «эстетике» взлететь так высоко в метафизическое; к реальным средствам отображения, которыми должно пользоваться искусство, снова, исходя из сверхсмыслового, прикрепляется нужное значение, которое должно было быть утрачено в их исконном смысле. Если я говорю: мне кажется, что психоанализ не только исправляет это тайное намерение всей метафизики, но и в некоторой степени – пусть и другим путем – удовлетворяет его, то, пожалуйста, не опасайтесь, будто я хочу взвалить на психоанализ что-то, что он нести совсем не собирается. Признаюсь: мне безумно приятно взваливать на него это, поскольку это исходит из Ваших собственных указаний, которые Вы еще десять лет назад дали нам в «По ту сторону принципа удовольствия», и которые, исходя из заглубленной нижней половины метафизики, словно сделали ее фиктивную верхнюю половину излишней. Вам при толковании сновидений бросилось в глаза, что наряду с теми сновидениями, которые в безраздумной свободе сна готовы исполнять наши желания (если тлеющее внутри увещевание сознания не превратит их в сновидения страшного содержания), встречаются также сновидения, простирающиеся в первобытное, в своего рода доисторическое время сновидения, где, кажется, еще совершенно не принимались во внимание «мы», наша позиция удовольствия или неудовольствия, где словно в чистом автоматизме повторения еще просто отражается то, что происходило внутри. Этот глубже лежащий слой за нашим уже более соотнесенным с Я слоем, – этот слой, который всегда присутствует, пусть даже порой и не замечается нами (так же, как наши соотнесенные с удовольствием и неудовольствием сновидения бессознательно продолжаются в нас после периодического бодрствования), кажется, указывает нам на сферу того, что мы обычно называем творческим в человеке. Потому как его появление должно простираться в первобытное, еще тварное, чтобы оставаться более вырванным из персонального как сознательное развитие к нашему практикологическому бытию; творящий человек искусства был бы хранителем изначальных впечатлений, которые не могут быть подавлены ни развитием, ни также сужением во все остальное, а еще пользуются, скажем так, навязчивостью к повторению. То, что называют «одаренностью в искусстве», вообще творческой деятельностью, было бы выворачиванием этого в произведение, во второй, новый вид действительности. И притом что каждый в конечном счете обитает в таком же глубинном слое, каждый был бы тронут произведением творящего, в его воздействии пережил бы себя со-деятелем его.
Сомневающимся в психоанализе доставило удовлетворение (как всегда, немного неверно понятое), когда Вы добавили кое-что по ту сторону принципа удовольствия и неудовольствия, пусть даже это добавление простиралось в глубину, а не в высоту; однако примечательно, что ту же характеристику демонстрирует и все то, что обычно величают «высоким удовольствием». Это каждый раз означает: по ту сторону наших промежуточных состояний Я-соизмеримого, направленного на персону, т. е. расширение границ, часто нечто, в результате чего «счастье и боль» включают в себя друг друга, часто «бытие вне Самости», ощущаемое как возвращение домой, к самому себе. Помимо мазохистического предоставления себя воле другого человека или помимо прочих патологий, откатывающихся назад к самой инфантильной безличностности, оно опирается уже на одно то обстоятельство, что темнота, из которой мы начинаемся, на самом деле шире, чем нам сознательно известно, и там, где эта изначальнейшая пассивность переходит в тем более усиленную акцию, мы говорим о творческих способностях. Из бессознательного одна часть посредине выступает как сознательно противостоящая реальностям, алчно схватывает их как средства выражения для этой новой, другой действительности, она даже целиком и полностью состоит в страстном побуждении к такому воплощению в действительность. Именно то, что бессознательное в искусстве приводит к такому возвышению, и означает для нас форму. Форма является не чем иным, как бессознательностью самого содержания, которое обычно (кроме патологического извращения) остается для нас недоступным, она – ничто рядом с ним: она потому обладает такой ранимостью к самому ничтожному вмешательству в нее, к мельчайшим изменениям в ней, что с ней прекращается «наличие» содержания. Она завладевает всем реальным, в котором перед нами предстает видимый или постижимый противостоящий нам мир, и принуждает реальное к тому, чтобы – для каждого родственно чувствующего – выражать нечто другое как сам этот практически видимый и логически постижимый мир.
Поскольку мне кажется, будто психоанализ не совсем признает то, что было лишь намечено здесь, я еретически настроена относительно трех пунктов его трактовки искусства. Во-первых, относительно завышенного оценивания им дневного сновидения, – которое, конечно, и у человека искусства может быть особенно пластичным, но из которого, тем не менее, меньше всего можно узнать о проблеме искусства как раз потому, что больше всего оно умеет рассказывать о себе. Потому что на самом деле форма и содержание в нем – это две разные вещи: его сновидение томится именно по реальному исполнению различных его желаний, и только потому, что это исполнение не удается или откладывается, они соответственно фантазии оформляются во временное подсобное средство. Это не только по степени, но и по сущности отделяет его от произведения искусства: даже там, где в произведении искусства где-либо проникло подобное, можно отыскать искусственно мертвый пункт или слепое пятно (это является путеводной нитью и имеет важность для анализируемо произведения именно потому, что здесь она явно вступает на влеченческую подоплеку). Так, произведения искусства пронизаны всяческим сладострастием, и тем не менее там, где лишь капля его просочится наружу из замкнутого кругооборота, следует расплата, словно отмирание одного из членов совокупного организма. И точно так же для удачи материальность повода должна быть не только погружена в забытье, но и полностью израсходована: должна истлеть подобно похороненному и превратиться в другое, растительное; насколько иначе этот кусок земли охватывается в произведении искусства, по-новому, с любовью, и по-матерински до самой последней косточки.