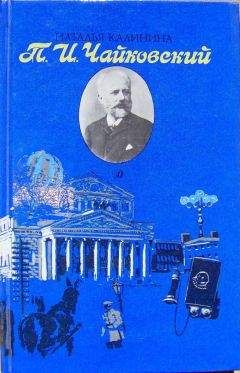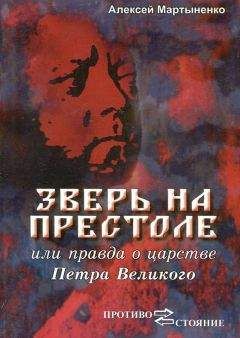Виктор Кондырев - Всё на свете, кроме шила и гвоздя. Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове. Киев – Париж. 1972–87 гг.
– Горит человек, хоть похмелиться теперь сможет, – сказал В.П., боясь, что его осудят за мотовство.
Но я его не осудил, хотя протянутую длань несчастного отверг…
От дома до конторы «Интернационала» было рукой подать, и Максимов всегда ходил на службу пешком. На скамейке возле метро «Георг Пятый», на углу Елисейских Полей, небольшая компания клошаров каждое утро лакомилась красным винишком из общей бутылки.
Приближаясь к честной компании, Максимов доставал приготовленную заранее мелочь и подавал её дежурному делегату. Благодарный делегат совершал церемонный поклон и произносил здравницу в честь щедрости его высокопревосходительства. Компания сердечно улыбалась.
– Добрый день, господа! Как дела? – стеснительно бормотал по-французски Максимов и торопливо удалялся под звучные одобрительные клики клошаров.
Однажды он вошёл в кабинет и взволнованно сообщил, что чудовищно попал впросак. Забыл дома кошелёк и оскандалился перед клошарами! Как бы не подумали, что он жмотничает! Одолжил у меня небольшую купюру и вернулся на угол.
– Неудобно подводить людей, они ждали меня, – решил потом оправдаться Максимов.
Я не одобрил подобного баловства, но и порицать не посмел…
Так вот, напряжение накапливалось уже давно, но открытую стычку я увидел впервые, когда в «Континенте» было напечатано письмо читателя из Союза.
Зачем Некрасов постоянно нам описывает мясные лавки, витрины и прилавки? Мы зубами щёлкаем, писал советский читатель, а он неуёмно нахваливает вкусноты и деликатесы! Напечатав письмо без ведома Некрасова, Максимов как бы намекал, что надо бы писать более серьёзные вещи.
Некрасов обиделся. При мне позвонил Максимову. Испугал меня своей грубоватостью. Долго выговаривался. Собеседник был не менее резок.
– В «Континент» я, видимо, больше ни ногой, – печально сказал мне Некрасов.
На этот раз, к счастью, пронесло, вскоре они встретились в редакции и решили отношения наладить.
В принципе они должны были разойтись давно. Но Максимов считал, что такой писатель, как Некрасов, непременно должен оставаться в редколлегии «Континента».
Некрасов же всегда утверждал, что «Континент» – очень хороший журнал, не превознося напрямую его главного редактора. Журнал и правда был как бы факелом русской культуры среди многих других хотя и заметных, но, чего скрывать, гораздо менее ярких и лучистых эмигрантских изданий. Но на Максимова нет-нет да и обижался, раздражался всё чаще, причём чем дальше, тем раздражение становилось более видимым, не так скрываемым, что ли.
– Вот, блядь, не по мне это! – зашёл он как-то к нам поплакаться. – Эта борьба, гнев, выведение на чистую воду! А Володя требует, чтобы я участвовал в этой склоке. А я не люблю это! И лень мне! Как ты думаешь, Витька, может, стоит послать «Континент»?
Но когда так долго ожидаемая беда свалилась на голову, это показалось неожиданным.
Как обычно, позвонил Максимов, попросил зайти в редакцию, Некрасов сказался занятым, и разговор закончился перебранкой. Не помню точно, из-за чего они переругались, но Некрасов страшно расстроился, спустился к нам уже выпившим и, с опаской смотря на меня, сообщил:
– С «Континентом» покончено! Володя сказал по телефону, что мы порываем отношения!
Я был убит…
На второй день было получено письмо на бланке «Континента».
«Уважаемый господин Некрасов!
Ваше дальнейшее сотрудничество с журналом “Континент” в любой форме мы, то есть редакция, считаем невозможным. От имени редакции, В. Максимов».
Некрасов решил запить первым. Но перед этим отправился в подпитии на «Свободу» и показал письмо Гладилину. Тот возмутился и посочувствовал. Доброхоты тоже Некрасова успокаивали, мол, это всё к лучшему, поверь. Кем-то была снята копия с письма, что потом особенно взвинтило Максимова. Он очень волновался, непрерывно повторял, как можно было показывать всем моё письмо! И где – на радио, в этом змеином гнезде! И кому – главным злопыхателям! Он поднялся из кресла в кабинете и говорил, глядя мимо меня, нервничал, сто раз перекладывал стопку бумаг. Попросил проводить его до дома, пригласил в кафе. Начал с пива. Долго рассказывал о неладах с Некрасовым, будто пытался мне всё растолковать. Я уже видел, что разрыв окончательный, и безутешно сожалел об этом…
Максимов после этого примерно ещё год выплачивал прежнюю зарплату Некрасову, пока на «Континент» не навалились ощутимые финансовые затруднения.
С самого начала эмиграции, ещё в первых письмах ко мне, Некрасов воображал «Континент» неким парижским вариантом «Нового мира». Где либеральные и талантливые авторы публиковали бы свои элегантные бесцензурные произведения. Колко посмеиваясь над советскими глупостями, тонко иронизируя по поводу геронтократии и живописуя западную свободу. За Максимова всегда заступались Иосиф Бродский, Эрнст Неизвестный и особенно Василий Аксёнов.
Некрасов и потом не перестал уважительно относиться к «Континенту», несмотря на растущую радикальность редактора журнала. Даже когда отношения с Максимовым стали скверными.
Я всегда всеми силами успокаивал Вику, упрашивал быть снисходительным к категоричности Максимова, смягчал, как мог, неприятный осадок от их перепалок в редакции. Убеждал: нельзя идти на разрыв, проливать такой бальзам на душу недругам и интриганам. Хотя я прекрасно понимал, что Виктор Платонович сдерживается из последнего.
Максимов видел в «Континенте» единственный и высший смысл своей жизни. И я знал, насколько искренне страдает и переживает он при малейшем осуждении своего журнала. Не говоря уже о злобных, ехидных, несправедливых наскоках, совершаемых часто на хорошем журналистском уровне…
У Максимова в Париже, насколько я знаю, было совсем немного близких друзей.
С Андреем Тарковским они дружили, при встречах водили долгие разговоры. Да и по телефону не отказывались поболтать, часто при мне. И когда у того обнаружили рак, Максимов извёлся тревогой и жалостью к другу. Подробно мне рассказывал о последних встречах с Андреем, что тот сказал, как выглядит. Уткнувшись взглядом в стол и вертя карандаш, отгоняя страшную мысль, говорил тихо, что умирающему Тарковскому обещали улучшение, врачам можно верить…
Утром Максимов помолчал минуту, а потом так печально сказал:
– Вы слышали уже, Виктор? Тарковский вчера вечером умер.
– Ну, вот, Бог смилостивился, – ответил я. – Отмучился!
– Это-то да. Но какая беда! – ответил Максимов. – Просто плакать хочется!
Настоящим – вернейшим и любимым – другом Владимира Емельяновича была его супруга.
– Таня Максимова – это идеальная писательская жена! – любил повторять В.П.