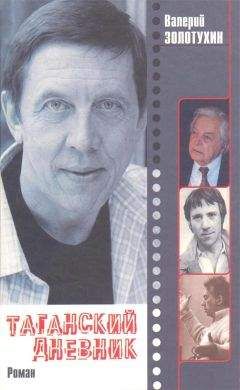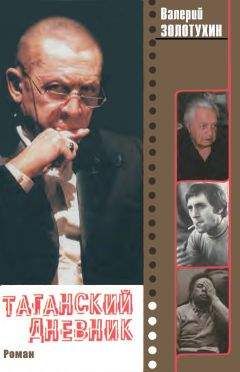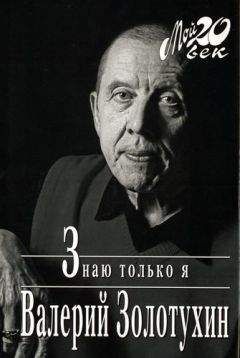Анатолий Эфрос - Профессия: режиссер
Я невольно чувствую себя Ракитиным, вспоминая, как Ракитин предлагал Наталье Петровне любоваться темно-зеленым дубом на фоне темно-синего неба. Она тогда так зло высмеяла его, а между тем это ведь действительно очень красиво. Я чувствую, что это красиво, и чувствую драматичность положения Ракитина, однако если бы я сейчас писал о Наталье Петровне, то, вероятно, точно так же, как и она, смеялся бы над Ракитиным. Между прочим, моя обязанность как режиссера уметь ощутить каждого и никого не оставить, не пропустив «через себя». Так вот, сейчас я Ракитин. Впрочем, разве Наталья Петровна не оценила бы этот пейзаж, будь у нее другое настроение?
Однако я говорил о том, что если бы снимал «Месяц в деревне» для кино, то не ограничился бы, как прежде, одной хорошей актерской игрой.
Я обязательно привлек бы, если говорить высоким слогом, пространство и время.
Разумеется, эти понятия и в театре есть, но там они содержат в себе как бы нечто иное. В театре, например, невозможно передать это ни с чем не сравнимое настроение, возникающее от созерцания далекого пейзажа с людьми.
Достаточно вообразить, что я что-то об этих людях знаю, и то, что я знаю о них, и этот далекий пейзаж, которого они лишь малая часть, будят мою фантазию по-новому.
В театре не покажешь, как Наталья Петровна, Беляев и Верочка запускают змея, а покажешь лишь то, как Ракитин с другими людьми, попавшими «в арьергард», наблюдают за этим.
Современные пьесы, как, впрочем, должно быть, и совсем старые, в которых реализм не боялся самой невероятной условности и тем самым достигал, быть может, еще большей реальности, не боялись бы, допустим, по-своему, по-театральному показать запуск змея.
Но в такой пьесе, как «Месяц в деревне», не новой и не совсем старой, предпочтительнее казалось вместо театрально-условного запуска дать лучше сцену наблюдающего «арьергарда».
Я всегда себя спрашиваю, нужно ли сегодня в подобных пьесах соблюдать эту меру, если я почувствовал возможность изобразить на сцене что-то большее. Нужно ли это? Бог его знает. Эти вопросы не решишь теоретически. Если тебе нужно, если ты почувствовал необходимость, если тебе представилось, как это можно сделать и зачем, то, разумеется, не философствуй, а действуй, потому что нет ничего хуже, чем хватать себя за руки.
А в кино и подавно. Можно даже как бы со стороны змея посмотреть вниз. Конечно, делать это необязательно, но просто средства к твоим услугам. Пожалуйста, если не нужно, не делай, но если нужно…
Хорошо отказываться от средств, если они у тебя под рукой.
А еще лучше, когда ты понимаешь, что они тебе становятся нужными, что ты их можешь включить в свое дело не просто потому, что они есть, что они существуют, а потому, что они уже стали естественной принадлежностью твоего мышления.
«Месяц в деревне» можно было бы начинать с резкой и неожиданной игры в прятки. Играют молодые и Наталья Петровна. Бегают, прыгают, прячутся в самых немыслимых местах. Ажиотаж. Коля упал, обиделся. Плач, вопли, азарт. Бегут наперегонки. Все неистовы в этой игре. А потом, когда игра распадется, Наталья Петровна станет мрачной, в секунду.
Это ее участие в игре и эту смену ее настроения видит Ракитин. Нужно только найти, как снять и эту игру, и Ракитина. И если это найдется, то достаточно будет всего двух фраз. Он пускай спросит: «Что с вами?» — когда она мимо пройдет. А она мимоходом ответит уклончиво.
* * *Меня заинтересовало одно общее рассуждение после моего «Вишневого сада».
— Есть, — услышал я, — Общество по охране природы, надо бы установить Общество по охране классики.
Отвлекусь на мгновение от конкретного случая и обращусь хотя бы к Шекспиру. Можете себе представить, сколько за четыреста лет было трактовок «Отелло» или «Лира». Никаких обществ по охране Шекспира, однако, не было. И что же? Выиграл он, Шекспир, или проиграл? Хотя бы одна трактовка поколебала ли некую истину и повредила ли Шекспиру?
Хотя бы одна из пьес Шекспира в конце концов стала хуже оттого, что существовал, допустим, 854-й эксперимент?
Нет, ни одна шекспировская пьеса не стала от этого эксперимента хуже, как и ни от одного другого.
Они, эти пьесы, лежат себе спокойно на полке, и в любой момент тот, кто хочет, может обратиться к словам. Однако он может обратиться к ним, обогащенный многими отрицаниями и согласиями или просто как школьник. Вряд ли стоит доказывать, что обращение, построенное на большом опыте, — лучше. Но сколько взрослых людей смотрят на классику как школьники, — они помнят, что сказала учительница, но сами абсолютно равнодушны, скажем, к «Ревизору» или «Королю Лиру».
Но теперь на мгновение обратимся к Островскому и решим, лучше ли ему оттого, что по его пьесам не сделано столько разных спектаклей, сколько сделано по Шекспиру.
Нет, не лучше. Островский идет мало. Нет поражающих нас впечатлений, нет новых открытий.
Правда, Шекспиру уже четыреста с лишним лет — было больше времени для плодотворных экспериментов. Но «Общество по охране Островского», пожалуй, посильнее, чем «Общество по охране Шекспира», если бы такое существовало, и потому я спрашиваю себя, пройдут ли достаточно успешно следующие триста лет?
Теперь я должен сказать, что понимаю: вопрос об учреждении Общества по охране классики стоит не буквально, а фигурально.
Но почему бы рассуждающему так вместо этих фигуральных предложений не сказать лучше несколько слов о самом Чехове? Рассказать хоть частицу того, что самому ему стало открываться в Чехове за последнее время. А потом спокойно продумать тот или иной увиденный спектакль, серьезно проанализировав, в чем там дело.
Далеко не всякий сделает это, ибо, будучи неглупым человеком, иной хорошо понимает, конечно, силу своего фигурального предложения и слабость тех буквальных мыслей, которые он сам мог бы высказать о Чехове. Ведь для того, чтобы сказать что-то стоящее, надо этим специально и заново заняться, в это углубиться и обязательно выразить что-то свое, но есть столько повседневных обязательств, что по-настоящему вновь не сядешь за чеховскую пьесу. Приходится удовлетворяться тем, что знал когда-то, да и то основательно позабыл.
И вот как раз такому человеку нам тоже хочется что-то открыть, основываясь на том, что именно сегодня мы это изучаем, этим дышим, живем. Только этим. Мне хотелось бы, чтобы он поверил, придя к нам, хотя бы в то, что все им увиденное сделано не от незнания того, что знает он, а вследствие нашего собственного сегодняшнего изучения и прочувствования.