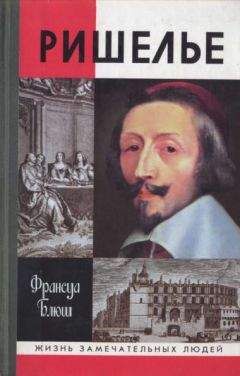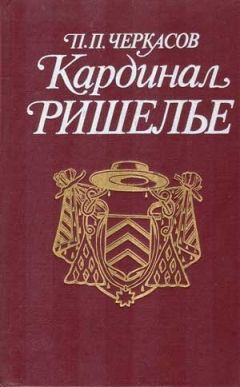Соломон Волков - Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым
С незапамятных времен по дорогам Украины бродили народные певцы. Их там называют «лирниками» или «бандуристами». Они почти всегда были слепыми — почему, это другой вопрос, в который я не буду входить, короче говоря, такова традиция. Факт тот, что это всегда были слепые и беззащитные люди, но никто никогда не трогал и не обижал их. Обидеть слепца — что может быть подлее? И вот в середине тридцатых объявили о Первом всеукраинском съезде лирников и бандуристов, на который должны были собраться все народные певцы, чтобы обсудить планы на будущее. «Жить стало лучше, жить стало веселее», — как сказал Сталин. Слепцы поверили этому. Они прибыли на съезд со всей Украины, из крошечных, всеми забытых деревушек. Говорят, их съехалось несколько сотен. Это был живой музей, живая история страны. Все ее песни, вся музыка, вся поэзия. И почти всех их расстреляли. Почти все несчастные слепцы погибли!
Почему это было сделано? К чему такой садизм — убийство слепых? Именно для того, чтобы они не бродили. Тут совершаются величайшие дела, полным ходом идет полная коллективизация, кулаков уничтожают как класс, и тут же бродят эти слепые, распевающие песни сомнительного содержания. Песни, не прошедшие цензуры. А какой цензуре можно подвергнуть слепого? Слепому нельзя вручить исправленный и одобренный текст, ему нельзя выписать заказ. Слепому все это надо сказать. Это займет слишком много времени. Его песню нельзя заархивировать, как листок бумаги, на все это нет времени. Коллективизация. Механизация. Расстрелять их — куда проще. Так и поступили.
И это — только одна история из множества подобных, но я сказал, что я не историк. Я только хотел рассказать о том, что хорошо знаю, слишком хорошо. И еще я знаю, что, когда все необходимые исследования будут закончены, когда все факты будут собраны и подтверждены документами, людям, которые были ответственны за это злодеяние, придется держать ответ перед потомками.
Если бы я твердо не верил в это, не стоило бы жить.
Но позвольте вернуться к тому, с чего я начал. Я говорил о композиторах, оставивших Москву и Ленинград и перебравшихся поближе к границам. Они сидели без дела в забытых Богом углах, жили в страхе, ожидая стука в дверь среди ночи и исчезновения навеки, как это произошло с их друзьями и родными. И вдруг они оказались нужны! Возникла насущная необходимость в них в связи с со всеми этими триумфальными песнями и плясками для фестивалей в Москве, а также для музыкального обличения прошлого и музыкального воспевания новой жизни. Потребовалась «народная» музыка с одной-двумя запоминающимися подлинными народными мелодиями, вроде грузинской «Сулико», любимой песни вождя и учителя.
Настоящие народные исполнители были почти полностью уничтожены, только немногие остались в живых там и сям. Но хотя они и сохранились, они не могли бы приспособиться к требованиям властей так быстро, как требовалось, они просто не в состоянии были это сделать. Способность мгновенно приспосабливаться — особенность профессионала новой эры. Это — качество нашей интеллигенции.
«Эчеленца, прикажите!
Всё изменим в тот же миг», —
как говорит один из персонажей в пьесе Маяковского «Баня». (Уверен, что Маяковский написал это о себе.)
Это приводило к «легкости необыкновенной в мыслях», по словам Гоголя, и подобному же отношению к местной национальной культуре. Композиторы, о которых я говорю, были чужаками и профессионалами. А еще они были очень, очень запуганы. Таким образом, имелись все необходимые предпосылки для «пышного расцвета» (как это стало называться) национального искусства — совершенно нового социалистического народного искусства! Ребята засучили рукава, и национальные оперы, балеты и кантаты хлынули могучим потоком. Не так хорошо обстояло дело с симфониями, но на симфонии и большого спроса не было. Не было также нужды в концертах и камерной музыке. Важно было, чтоб стишки были верноподданнические, а сюжет — легкий для восприятия. Сюжет брался из ужасного прошлого, обычно о каком-нибудь восстании или о чем-то в этом роде. В него без труда втискивался стереотипный конфликт, связанный с заговором, а затем добавлялась история роковой любви, способная выжать одну-две слезинки.
Главный персонаж, естественно, был героем без страха и упрека. И непременно имелся предатель, это было необходимо, так как призывало к усилению бдительности. Что также соответствовало окружающей действительности. С профессиональной точки зрения это было благозвучно, в лучших традициях школы Римского-Корсакова, с которой я так хорошо знаком. Противно признаваться, но это так.
Брались местные народные мелодии (наиболее доступные европейскому уху) и развивались в европейском стиле. Все «лишнее» (с их точки зрения) безжалостно отбрасывалось. В точности по старой шутке: «Что такое бревно? Хорошо отредактированная елка».
Все это было гармонично и опрятно, но как только дописывалась последняя нота и высыхали чернила, начиналось самое трудное. Требовалось найти автора для этой стряпни. Автора, имя которого было бы столь же благозвучно, как музыка, но, так сказать, в противоположном направлении. В то время как музыка должна была быть максимально европейской, имя автора должно было быть максимально национальным. Они наклеивали яркий экзотический ярлык на стандартный европейский продукт. Как правило, с этой проблемой легко справлялись. Находили какого-нибудь послушного молодого или не очень молодого, но обязательно тщеславного, нацмена (в ту пору появилось это уничижительное сокращение от слов «национальное меньшинство»), без малейшего угрызения совести ставившего свое имя на титульном листе работы, которой он не сочинял. Сделка совершалась, и мир получал очередного мерзавца.
Но о наших «профессионалах» тоже не забывали. Прежде всего, их имена иногда появлялись на титульных листах партитур, в программках и буклетах, разумеется, только в качестве соавторов, но и это было большой честью для бездомных композиторов. Во-вторых, даже если их имена оставались в тени, их награждали, и весьма щедро.
Им давали звания, награды, им хорошо платили. Они хорошо ели, спали на мягких перинах и жили в собственных домиках. Наконец, и это самое главное, они не очень боялись. Страх не исчез полностью, конечно, этого никогда не бывает. Страх остался в их крови навсегда, но дышать им было легче. И за это они были вечно благодарны национальным республикам, в которых обосновались.
Я дружу с некоторыми из этих работяг и могу сказать, что уже не одно десятилетие эта ситуация их устраивает. Меня это всегда поражало. Я знаю, как страдали поэты, когда нужда и «понятные» обстоятельства (например, тот же самый страх) вынуждали их заниматься переводами. Поэтическому переводу в связи с «пышным расцветом» национальных культур уделялось особое внимание, но это не моя область. Я только говорю, что картина — та же самая.