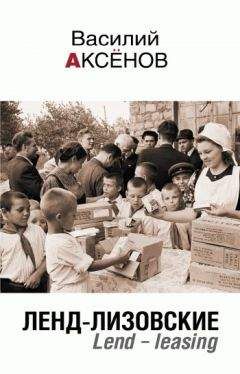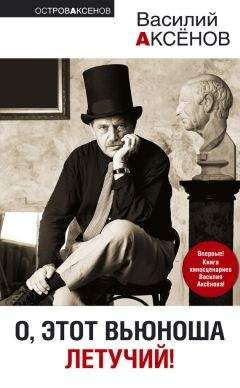Дмитрий Петров - Аксенов
А желал рассказывать о литературе. Любил ежесеместровую частичную смену лиц — американская система, в отличие от нашей, позволяет каждый семестр «брать» те классы, какие студенты считают нужными, а не пребывать в одной и той же группе все годы учения. Любил толпу школяров. Вот они топают от паркингов к корпусам — кто в джинсовых или полотняных лохмотьях, кто — с иголочки: рубашечка баттнз-даун, стильный галстучек, блейзерок, шортики, розовые коленки. Касается это и сугубо женских заведений… Там еще гольфики могут добавиться. И вообще, эти фермерские (хотя и не только) дочурки и сыновья сложены вовсе не устрашающе, а, за рядом исключений, вполне пропорционально, спортивно и привлекательно.
Аксенов так вдохновлялся общением со студентами, что увековечивал их (частично — под. псевдонимами) в романах и стихах. О романах расскажем чуть погодя, а со стихами произошла забавная история: они здорово перекликаются с набоковскими описаниями пнинских студентов. У Владимира Владимировича читаем: «Реестр записавшихся на курс русского языка включал одну студентку промежуточной группы, полную и старательную Бетти Блисс, одного, известного лишь по имени (Иван Дуб — он так и не воплотился), в группе повышенной сложности и трех в процветавшей начальной: Джозефину Малкин, чьи дед и бабка происходили из Минска, Чарльза Макбета, чудовищная память которого уже поглотила десяток языков и готова была похоронить еще десять, и томную Эйлин Лэйн, — этой кто-то внушил, что, овладев русским алфавитом, она сумеет без особых затруднений прочесть „Анну Карамазову“ в оригинале…»
У Василия Павловича подопечных было больше. К нему пожаловал не более и не менее, а Класс Америка, с неменьшим юмором, чем набоковский, собранным в стихе:
Двадцатилетний Стенли Яблонский
В стильном рванье — сплошной атлас! —
Обнаруживает странно японский
Абрис лица и рисунок глаз.
С ним его подруга, на груди монисто,
Калифорнийка Роксана Трент,
Голубоглазая постмодернистка,
Чья философия — эксперимент!
Рядом из глубинки «Дунька с трудоднями»,
Отряхивает с набрюшника потейто-чипс:
Звать ее Джейн, а фамилиё — Пастрами,
Уши продолжаются баранками клипс…
Аксеновские описания богаче. Студентов больше, палитра многоцветнее…
Бывший сержант дорожного патруля
Старательно отглаженный Рэнди О:
Глаза, что две разбалансированные пули,
Жизненные планы грандио —
Зны, в отличие таковых у Грэга
Миллера, что и так доволен собой.
Своими зубами цвета снега
И соломенной шевелюрой «голден бой».
Огненно-рыжая Шила О’Коннор
Символизирует весь свой клан:
На фоне зеленых проемов оконных
Она преподносит набор ирлан —
Дских многоцветий…
И еще пара страниц о тех, кто изучал «Модернизм и авангард в России начала XX века: Образы Утопии», или «Два столетия русского романа», либо проходил курс «Роман — упругость жанра» — в зависимости от того, когда и где судьба столкнула их с профессором Аксеновым.
Что касается Набокова, то мастер, думаю, был столь краток потому, что, во-первых, считал достаточным вдохновить пусть и незнакомого собрата-изгнанника и профессора на литературные изыски, а во-вторых, полагал, что о студентах — довольно.
Впрочем, не так просты перепутья писательско-профессорской жизни: Пнин у Набокова, бывало, отступал от канвы урока — шутил, веселился, хохотал до грушевидных слез, и «к тому времени, когда сам он становился совсем беспомощным, студенты уже валились на пол от хохота: Чарльз прерывисто лаял, как заводной, ослепительный ток неожиданно прелестного смеха преображал лишенную миловидности Джозефину, а Эйлин, отнюдь ее не лишенная, студенисто тряслась и неприлично хихикала».
Студенты Аксенова тоже не скучали. Он пробудил в них интерес не только к русской литературе, но и к писательству. Приходит, скажем, к профессору Аксенову некий, к примеру, Чарли Кукул или Моника Смит и заявляет: проф, меня тянет к роману, а как начать — не знаю.
— Заведите альбом, — отвечает проф (помните альбомчик Ахмадулиной?), — и записывайте туда всё, что думаете о романе. Всё, что находите нужного в книгах, на улице, в болтовне, диалоги, описания природы, варианты начала, финала. Только не составляйте плана. Роман интересно писать, когда не знаешь, что будет через пять страниц. Заполните альбом и увидите, что роман начинается.
В глазах Чарли (Моники) загорается удивительный свет, а лицо обращается в лик одержимого. С сиянием на лике он бежит за альбомом, чтобы заполнить его буковками — фразами, наблюдениями, главами… Или — не заполнить.
Ясное дело, о жизни на кампусе Аксенов рассказал в романах. Например — в «Кесаревом свечении», где поживает-переживает писатель в изгнании Стас Ваксино (он же — Влас (Влос) Ваксаков). И в «Новом сладостном стиле», где геройствует режиссер Саша Корбах. Причем оба, изгнанные с родины за убеждения и творческие вольности, преподают в одном и том же университете Пинкертон. Даже повествующие об этом главы называются одинаково! Только в «Свечении» название школы взято в кавычки, а в «Стиле» дано просто так — на босу ногу. А что такого? Один трудится в Центре исследования и разрешения конфликтных ситуаций (ЦИРКС), другой — в университетском театре «Черный куб». Они могли вообще не пересекаться. Кампус-то большой… Разве что в столовой — любимом месте их создателя, которому Аксенов посвятил немало строк.
Но нет. В Америке они не встретились. Им предстояло пересечься в будущем, в России, в другом романе и в сложной ситуации.
Пока же у Власа (он же Стас) — по утрам проверка зачетных работ, обсуждение темы «Любовный конфликт в русской литературе» на примере — понятно — «Дамы с собачкой» и показ слайдов супрематизма. У другого — сочинение чумовой пьесы и постановка обалденного спектакля.
Сперва он проболтался: мол, хочу ставить нечто о Данте, но был остановлен начальством, в американской простоте не умевшим понять: что русский может ставить из итальянской жизни? Что может сказать о возрождении человек, прибывший из мира распада? Саша собрался: о’кей, работать будем с Гоголем — с «Записками сумасшедшего», засунув в них «Нос» и Шостаковича. Ура — просияло начальство. И понеслась…
Виртуоз иносказаний, Аксенов нередко описывает личные ситуации, включая их в судьбу героев. Думается, и в истории постановки Корбахом Гоголя звучат отголоски дискуссий вокруг университетских курсов Василия Павловича.
Так или иначе, Саша чудодействовал в своем «Черном кубе». Студенты отпечатали дюжину маек с его фото, сделанным в мгновение высшего вдохновения, и яростно репетировали. Завкафедрой театра Найджел Таббак — довольный — повторял: «Саша, твой Достоевский мне спать не дает». — «Гоголь, Найджел, Гоголь», — уточнял режиссер-в-доме. «Для меня всё это Достоевский», — упорствовал зав. В подражание уже упомянутому нами вдохновителю — Набокову с его Толстоевским Саша придумал и себе мифического автора пьесы — лейтенанта Гоглоевского. И представил удивительное хулиганское шоу «Мистер Нос и другие сторонники здравого смысла», и впрямь замутив спектакль по Гоголю, но пронизав его от начала — то есть от вешалки, и до конца (понятно — фуршета с шампанским) новым сладостным стилем обожаемого Данта…
Студенты оттянулись по полной. Лабали в свое удовольствие. Замирали в барельефных стопах. Акакий Акакиевич виртуозно кружил на велосипеде. Шинель пела арию Каварадосси. Что делал Вий, сказать страшно. Панночка мгновенно превращалась в ведьму и обратно. Финал же пронзила такая заноза «неизлечимой печали», что президент «Пинкертона» миссис Миллхауз была в слезах. Соперники — соседи из университета Джорджа Мэйсона пристально присматривались к россиянину…
А в это самое время его любимая Нора Мансур летела в спейс-шаттле к неведомым звездам…
Воспарения Саши Корбаха могут ли не отражать, хоть отчасти, счастье Аксенова от преподавания? Могут. А нам это надо? Тем более что свидетельства Василия Павловича подтверждают: в университете он нашел себя. Университет, — напишет он, — мое самое любимое место в Америке.
Не есть ли этот триумф своеобразное переописание писательских успехов Аксенова, которому преподавание оставляло время, нужное для творчества? Ведь именно в пору профессорства явились только что упомянутые герои и романы, плюс — ряд других текстов. Например — «Желток яйца»…
Этот роман Аксенов писал по-английски. Взял и стал писать на языке, на котором преподавал и по большей части говорил. Как потом рассказывал автор, он с первых дней жизни в Штатах хотел написать в полном смысле слова «Американский роман». Этому помогло то, что преподавание требовало совершенствования его английского языка.