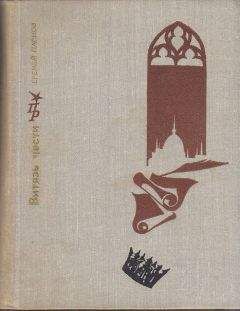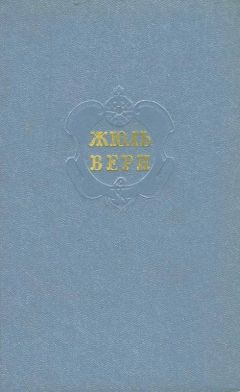Анатоль Гидаш - Шандор Петефи
И перед глазами его вставали уже не картины мучительной жизни бесправного солдата австрийской армии, а сверкающее небо Италии — страны поэтов и песен, волны голубой Адриатики и горы, рвущиеся к небесам… Все равно… все равно… Лишь бы вырваться отсюда!
Пойду в солдаты! — воскликнул он и швырнул письмо на пол.
Он собрал свои пожитки: несколько сборников стихотворений, тетрадь собственных стихов и пару белья — все свое достояние, — и поехал в Шопрон. На следующий день он явился в казарму.
— Я хотел бы стать солдатом.
Его повели к капитану. Тот, оглядев щуплого добровольца, покачал головой и направил к врачу. Петефи пришел в ужас:
— Зачем к врачу? Он еще сочтет меня слабым.
У полкового врача юноша просто взмолился:
— Сударь, не откажите мне, я хочу стать солдатом!
— А чем вы занимались до сих пор?
— Учился в школе. Но я беден и не могу дальше учиться.
— Сколько вам лет?
Петефи прибавил себе два года.
Врач посмотрел на него долгим, серьезным взглядом:
— Шесть лет надо служить. Выдержите?
— Все выдержу, сударь!
Врач отвернулся, пожал плечами:
— Ну, как хотите. Других на аркане тянут, а вы… — и отправил его к фельдфебелю.
Петефи выдали военную одежду и повели в большое помещение, где на койках по двое лежали солдаты.
Шандор присел на край жесткой постели. Ноги его были обуты в огромные солдатские башмаки. Он оглянулся и глубоко вздохнул.
— Да, здесь уж по крайней мере никому не буду в тягость! — прошептал он.
* * *Жизнь Петефи в армии была необычайно тяжелой. Юноша попал под власть тупицы капрала. Он ходил по наряду чистить картошку на кухню, подметал двор казармы, мыл полы, колол дрова. Все это Шандор готов был исполнять — ведь так приходилось всем, но палочная дисциплина, грубые окрики, жестокая муштра, издевательства, мордобой, унижения человеческого достоинства были для него невыносимы.
Я служил в полку когда-то, да, в полку,
И носил палаш солдата на боку.
Тесноват мундир казенный,
Но блестящ, —
Отвороты, кант зеленый,
Сверху плащ.
Был солдатом я завзятым, боевым.
Вот те крест, я был солдатом рядовым.
В первый год мне ранец новый
Был тяжел.
Но до чина рядового
Я дошел.
Где нельзя найти виновных,
Там солдат
По уставу безусловно
Виноват.
И поплатится тем паче рядовой,
Если он рожден с горячей головой.
«Только небесная, благодатная поэзия уносит меня иногда из этого ада. О, если б я не хранил ее в своей груди, меня убило бы отчаяние! Вот уже целый месяц я здесь, я написал еще очень мало. Да и как писать? Капрал, как только увидит перо в моей руке, сразу бранится или дает мне какую-нибудь работу!..»
Сыновья народа — солдаты полюбили поэта. Он рассказывал им сказки, писал за них письма — ведь среди солдат на двадцать человек едва ли попадался один грамотный, — выслушивал рассказы обо всех их бедах-невзгодах и пел вместе с ними песни.
А у нас пошли веревкой вербовать —
Значит, бедным паренькам несдобровать,
Угрожают, вяжут руки за спиной,
В город Шопрон провожает их конвой.
Семь сынов у богача, но у него
Вербовщик не отберет ни одного,
А последнего сынка у бедняка
Завербует уж в войска наверняка.
Провожают новобранца старики:
«Пощадите, господа вербовщики!»
Никакого нету дела господам:
«За гроши твои я парня не отдам!
Ковыляй, старик, назад в свое жилье
Да готовь теперь ты внука под ружье!»
За такое злодеяние господ
Покарает их когда-нибудь господь.
С переменой штатской одежды на солдатский мундир отбросил Петефи и привычки и навыки той среды, в которой он жил прежде, а вместе с этим совсем отказался и в своих стихах от высокопарного языка поэзии того времени.
Когда он выходил из казармы на свидание с бывшими школьными товарищами, ему все труднее было с ними разговаривать. Поэт уже знал, что в мире есть иная жизнь, иные чувства — это жизнь и чувства миллионов простых людей, близость с которыми он ощутил особенно сильно в дни своих скитаний.
Тяжела была жизнь Петефи в солдатчине.
«Сколько раз приходилось горемычному солдату стоять в карауле возле Шопронской почты! В лютую стужу он по два часа подряд бегал взад и вперед по узкому деревянному мостку или забирался в будку, чтоб спастись от воющего ветра, — писал первый биограф Петефи, Золтан Ференци. — Какому-то бедному адвокату бросилась в глаза эта тощая фигура, он стал допытываться — кто да что, и пожалел его… Сочувствие адвоката особенно возросло, когда он увидел солдата погруженным в чтение Горация».
Какой-то шопронский студент так вспоминал впоследствии о Петефи:
«Войдя в комнату, я увидел совсем невзрачного солдата, скромно примостившегося на некрашеном студенческом сундучке. Лицо его было бледно, усы еще едва пробивались, весь он был тщедушный, щупленький. С плеча у него спускался белый ремень от винтовки… Зеленого цвета мундир с желтыми петличками, зеленые брюки и тяжелые солдатские башмаки, которые болтались у него на ногах так, будто были шиты не на него. Один только ворот мундира был ему не широк; казалось, он поддерживал голову, торчавшую на длинной шее. Волосы жесткие, коротко подстриженные, впалые щеки, лицо смуглое, живые черные глаза…»
Как раз в это время в городок прибыл Ференц Лист. Рядовой Петефи попросил у капитана увольнительную, чтобы попасть на концерт великого венгерского пианиста и композитора. Капитан отказал ему. Тогда вечером Петефи удрал из казармы. На другой день его заковали в кандалы. Вряд ли кто еще заплатил так дорого за посещение концерта Листа, как Петефи.
Да, видно, не зря пели венгерские солдаты, служившие австрийскому императору, печальную песню:
Если в Буду ты придешь,
Если в Буду ты придешь,
мать родная, —
Ты в казарму загляни,
Сквозь окошко загляни,
дорогая:
Там меня в солдатской форме
встретишь сразу —
Сбриты волосы мои,
Сняты черные мои
по приказу.
Если в Буду ты придешь,
Если в Буду ты придешь,
мать родная, —
Загляни в окно тюрьмы,
Загляни в окно тюрьмы,
дорогая:
Там в цепях, как птица в клетке,
сын твой бьется.
И не диво, коль твое,
Сердце бедное твое
разорвется.
В марте 1840 года полк выступил из Шопрона.