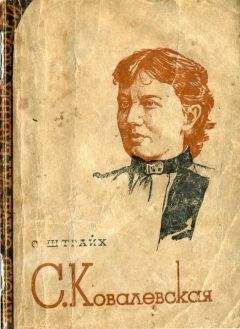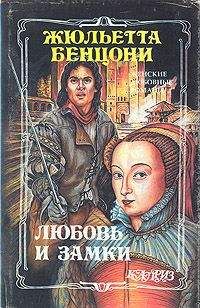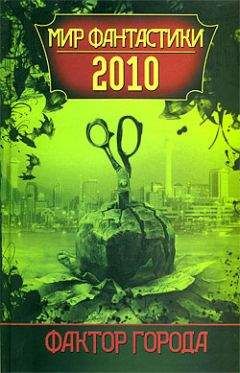Соломон Штрайх - Н. И. Пирогов
В московском медицинском студенческом общежитии насчитывалось в три раза больше обитателей, чем в общежитии остальных факультетов, взятых вместе. Здесь открыто говорили о деспотизме, взяточничестве чиновников, о казнокрадстве, о граничащей с кощунством разнузданности духовенства, о вытекающих из несправедливостей существующего государственного и общественного строя бедствиях трудового народа. Часто подобная агитация и пропаганда сопровождалась здесь разгулом и дебоширством, теряя много или почти все в своем революционном значении, но все же зарубки оставались в памяти, мысль получала толчок, сознание росло.
В эту среду попал осенью 1824 года Николай Иванович Пирогов, имея всего 14 лет от роду.
Еще в конце сентября Коля Пирогов играл в саду со своими сверстниками в солдаты, отличался изумительною храбростью, рвал на противниках сюртуки, наставляя товарищам-врагам фонари под глазами. А через несколько дней в студенческом общежитии университета в знаменитом десятом номере, о котором москвичи шепотом говорили как о рассаднике революции и других ужасов, четырнадцатилетний студент присутствовал в комнате своего бывшего учителя Феоктистова при таких сценах, что раскрывал глаза от изумления. Студенты-медики, почти все из семинаристов, ребята дюжие, с сиплыми голосами и густою растительностью на липах. Есть среди них и весьма великовозрастные.
— Да что Александр I! — кричит один. — Куда ему! Он в подметки Наполеону не годится! Вот гений, так гений!
Поклонник развенчанного французского императора становится посреди комнаты, протягивает правую руку и с одушевлением читает стихи Пушкина о Наполеоне:
Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век…
— А читали вы Пушкина «Оду на вольность»?! — кричит другой и декламирует:
Увы, куда ни брошу взор,
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор.
Неволи немощные слезы!
Везде неправедная власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела…
Возбужденного декламатора прерывает более революционно настроенный товарищ:
— Ну, это винегрет какой-то! По-нашему не так. Революция так революция — с гильотиною! Как у французов!
Услышав, что в другом углу двое товарищей ведут беседу о браке, сторонник гильотины прерывает сам себя, неожиданно обращаясь к спорящим:
— Да что там толковать о женитьбе. Что за брак! На что он вам? Кто вам оказал, что нельзя попросту спать с любою женщиной?!
Пирогов дрожит от ужаса и стыда.
Собирающийся сочетаться законным браком пробует возражать:
— Ну, все-таки неудобно…
Ему не дает договорить взлохмаченный студент лет за тридцать, спешащий на помощь проповеднику свободного брака:
— Все это проклятые предрассудки! Натолковали Вам с детства ваши маменьки да бабушки, да нянюшки, а вы и верите. Стыдно, право, стыдно!
Вдруг в комнате раздается ужасный треск. Среди будущих медиков оказался горячий поклонник Пушкина, студент Катонов. Он соскакивает со своей кровати, хватает стул, швыряет его на середину комнаты и кричит:
— Слушайте, подлецы! Кто там из вас смеет толковать о Пушкине! Слушайте!
И кричит, закатывая глаза и скрежеща зубами:
Тебя, твой род я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы.
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле!
Катонов, восторженный обожатель Мочалова, не кричит уже, а вопит, ревет, шипит, размахивает во все стороны поднятым стулом; у рта пена, жилы на лбу переполнились кровью, глаза выпучились и горят.
Другим обитателям десятого номера надоедает исступление Катонова, и верзила Лобачевский кричит ему:
— Замолчишь ли ты, наконец, скотина?!
Происходит схватка, скоро оба катаются по полу…
На остановило разошедшихся студентов и появление служителя Якова, принесшего им водку:
— Чего разорались, черти! Вот придет начальство, будет ужо вам.
Какое там начальство! В последние месяцы царствования Александра I в университете некого было бояться. Все христиански-благочестивые мероприятия правительства отражались только на ходе преподавания, глушили и душили научную мысль. Юношескую, инстинктивную тягу к вольности трудно было затоптать даже аракчеевским сапогом.
Начальства в смысле казарменной субординации в университете не было никакого. Был, по словам одного из современников Пирогова, инспектор своекоштных студентов, знаменитый Федор Иванович Чумаков, вся деятельность которого заключалась в том, что он изредка, во время лекций, войдет в аудиторию, и если увидит какого студента в гражданском платье, а не в форменном сюртуке или мундире, то, обыкновенно, подойдет к нему и скажет:
— А, батенька, так вы-то в цивильном платье. Пожалуйте-ка в карцер.
Но чтобы от него отделаться, стоило только ему сказать:
— Помилуйте, г. профессор, я не студент.
— А, вы не студент. Ну, извините меня, извините.
Вспоминая свою студенческую жизнь, Пирогов писал, что «университетская молодежь, предоставленная самой себе, жила, гуляла, училась, бесилась по-своему… Проказ было довольно, но чисто студенческих. Болтать, даже в самых стенах университета, можно было вдоволь о чем угодно, и вкривь и вкось. Шпионов и наушников не водилось; университетской полиции не существовало; даже и педелей не было. Городская полиция не имела права распоряжаться студентами, а провинившихся должна была доставлять в университет… Запрещенные цензурою вещи ходили по рукам, читались студентами жадно и во всеуслышание. Чего-то смутно ожидали».
— А знаете ли, — говорил Пирогову, по его позднейшему рассказу, один из жильцов десятого номера, — что у нас есть тайное общество?
Пирогов с испугом посмотрел на него.
— Да, — продолжал бывший семинарист, любуясь произведенным на юного собрата впечатлением, — Я член этого общества. Я и масон.
— Что же это такое?
— Да так, надо ж положить конец!
— Чему?
— Да правительству, ну его к черту!
В это время из другого угла раздается голос:
— А слышали, господа: наши с Полежаевым и студентами медико-хирургической академии разбили вчера ночью бордель.
И пошли рассказы о геройском подвиге студентов под предводительством поэта Полежаева. Рассказы уснащались подробностями, в сравнении с которыми беседы отцовского писаря Огаркова и песни кучера Семена казались невинным лепетом.