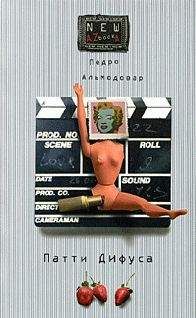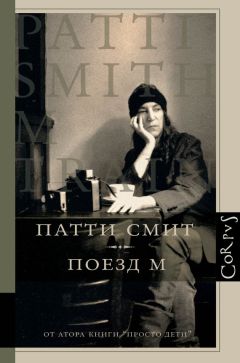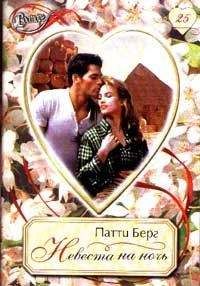Георгий Адамович - Table talk
Блока я знал мало.
Относился я к нему приблизительно так же, как Эдуард Род, забытый, но довольно замечательный швейцарский романист, к Толстому, – с уважением, с преклонением почти суеверным. Эдуард Род всю жизнь мечтал о поездке в Ясную Поляну, но желания своего так и не исполнил. «С чем я поеду, что я ему, Толстому, скажу?» – заранее смущался он, откладывая поездку из года в год. Думая о знакомстве с Блоком, я тоже спрашивал себя: что я ему скажу?
Впервые я увидел его в Тенишевском полукруглом зале, на вечере памяти Владимира Соловьева, – десятилетие со дня смерти? – будучи еще гимназистом. «Ночных часов» тогда ещё не было, но была волшебная – по крайней мере, казавшаяся мне волшебной – «Земля в снегу»:
О, весна без конца и без краю,
Без конца и без краю мечта…
Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума. Кому не было шестнадцати или восемнадцати лет в пору блоковского расцвета, тот этого не поймёт и даже, пожалуй, с недоумением пожмет плечами. Да, от Блока многое уцелело, осталось в русской поэзии навсегда. Но дух эпохи выветрился, обертона её, особые её веяния, её трепет, её надежды – это теперь неуловимо. А Блок был сердцем и сущностью эпохи, и теперь стихи его уже не те, не таковы, какими когда-то были. Это случается в истории искусства. Счастлив тот, кто был молод, когда появился вагнеровский «Тристан».
Потом были редкие, случайные встречи. Помню, во «Всемирной литературе» Блок, после долгих проб и попыток, отказался переводить Бодлера, заявив, что «окончательно не любит его». Меня это озадачило и смутило. Помню эпизод с переводами Гейне.
Блок, эти переводы редактировавший, колебался, следует ли наново перевести «Два гренадера». Гумилёв вызвался предложить ему на выбор с десяток переводов знаменитой баллады и просил друзей и учеников этим заняться. Мы трудились целую неделю, и, право, некоторые переводы оказались совсем недурны. Но Блок отверг их – и оставил старый перевод Михайлова.
«Горит моя старая рана…» – задумчиво, чуть-чуть нараспев произнес он Михайловскую строчку, будто в укор всем нам, в том числе и Гумилёву.
У меня было письмо Блока, одно-единственное, увы, оставшееся в России, – письмо в ответ на первый, совсем маленький сборник стихов, который я ему послал. Насколько можно было по письму судить, стихи ему не понравились, да и могло ли быть иначе? За исключением трёх или четырёх строчек не нравились они и мне самому. Зачем я постарался их издать? Для глупого молодого удовольствия иметь «свой» сборник стихов – «как у других», о, поручик Берг! – и делать авторские надписи.
Письмо Блока по содержанию своему польстить мне никак не могло. Но сдержанно-отрицательную оценку искупил тон письма, дружественный, вернее – наставительно-дружественный, от старшего к младшему, проникнутый той особой, неподдельной человечностью, которая сквозит в каждом блоковском слове.
Последние строчки письма помню наизусть, хотя и прошло с тех пор почти полвека:
«Раскачнитесь выше на качелях жизни, и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь».
* * *
У Бердяева, в его кламарском доме. Обсуждение книги Кестлера «Тьма в полдень». В прениях кто-то заметил, что любопытно было бы – будь это возможно! – пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.
Бердяев расхохотался.
– Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран. Это ведь бывает, я и других таких людей знал. Ленин, тот понял бы все с полуслова, но не стал бы слушать, а выругался бы и послал всех нас… сами знаете куда.
По утверждению Бердяева, основным побуждением Ленина была ненависть к былому русскому политическому строю и стремление к его разрушению. Что дальше, к чему все в конце концов придет, об этом Ленин будто бы никогда не думал, хотя своё безразличие к будущему скрывал. Действительно ли коммунизм даст людям удовлетворение и благополучие? Ищет ли человек равенства, хочет ли он его? Не потребует ли насильственное установление равенства постоянного контроля, непрерывного полицейски-государственного надзора? Не прав ли был Герцен, предвещавший в далёком будущем неизбежность новой, уже индивидуалистической революции? Ленина, как утверждал Бердяев, это нисколько не интересовало.
– Ленин оттого и добился своей цели, – говорил он, – что признавал только цель ближайшую, а всякое мышление, к ней не ведущее или тем более осуществление её задерживающее, презирал как занятие пустое и вредное.
* * *
Как я видел Иннокентия Анненского.
В петербургские классические гимназии довольно часто приезжали для наблюдения лица начальственные: попечитель округа, окружные инспектора. Никого из них я, конечно, не помню.
Но Анненского помню, будто видел его вчера, и при склонности к объяснениям таинственным, мистическим должен был бы счесть это предначертанием свыше. Более правдоподобно однако объяснение другое: детское мое воображение поразила странность, диковинность его облика и именно она помешала смешать его с другими важными чиновниками, к нам заглядывавшими.
Был я в пятом или шестом классе. В середине латинского урока в класс вошел высокий, пожилой человек в форменном сюртуке со звездой и молча пожав руку нашему учителю, бросившемуся ему навстречу, молча, откинув голову, сел на стул, рядом с кафедрой. Урок продолжался. Посетитель сидел, закрыв глаза, не шевелясь, будто окаменевший. «Аршин проглотил», – шепнул кто-то с задней парты. Действительно «аршин проглотил»: живая иллюстрация к этому выражению.
Так прошло минут двадцать, может быть, больше. Внезапно окружной инспектор вздрогнул, открыл глаза, встал и снова пожав руку учителю, не без аффектации заметил, что у того «превосходный метод» и что он испытал «истинное удовольствие», слушая наши переводы из Цезаря. Когда он скрылся за дверью, наш латинист, Петр Петрович Соколов, сообщил, что это был Анненский, «знаменитый оратор». Почему он назвал его именно оратором, не знаю.
Вскоре после этого Анненский умер. В некрологе, помещенном в «Журнале министерства народного просвещения», было указано, что «покойный посвящал свои досуги изящной словесности». А года через два-три вышел «Кипарисовый ларец» и тогда стало ясно, какое значение для русской поэзии имели эти «досуги».
Впрочем, догадаться об этом можно было бы и раньше, по «Тихим песням», вышедшим в начале столетия под псевдонимом Ник. Т-о. Но этот Ник. Т-о и его сборник, в котором несомненный дилетантизм причудливо сочетался с изощреннейшим, никому из современников и не снившимся мастерством, почти никто и не заметил.