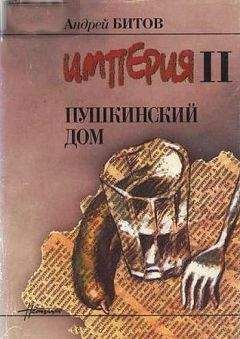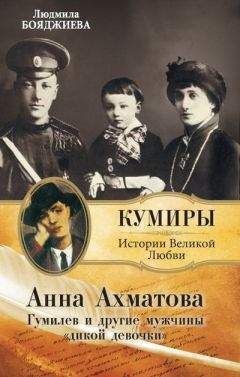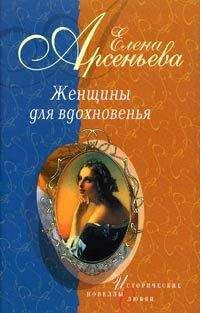Андрей Битов - Пушкинский том (сборник)
Не только ведь «иностранность» и объем объединяют «Маленькие трагедии» в единство. При видимом разнообразии сюжетов и героев все они роднятся чем-то, как варианты. Варианты путей таланта, варианты поэтической судьбы. Будто, ступив окончательно на свою дорогу, Пушкин перебирает эти пути, то ли выбирая из них, то ли перечеркивая их для себя. Если «Моцарт и Сальери» и «Пир во время чумы» более или менее ясны в таком прочтении, то «Скупой рыцарь» и «Каменный гость» более косвенны и требуют истолкования. Дон Гуан, правда, тоже поэт, как и Вальсингам. Тяга поэта искусить Судьбу чревата расплатой – сюжет, осуществленный Пушкиным на практике. «Скупой» (так в первоначальном списке) – по-видимому, вариация на тему притчи о «зарытом таланте»; дар надо раздать, иначе он будет разбазарен, как его ни стереги, причем не сведущим цену таланта потомком. Перебрав эти варианты поэтической судьбы (и, по-видимому, ряд других) на уровне замысла, пережив их в себе, Пушкин отходит от них вплоть до 30-го года, увлеченный наконец открывшейся свободой. Случай, Судьба и Государство окончательно разводят его с друзьями-декабристами: их виселица и Сибирь – для него конец опалы. Как это всё-таки точно в России! Следствие по делу декабристов совпадает (случай ли?…) с выходом (наконец-то, через шесть лет!) первой книги пушкинских стихов.
В «Повестях Белкина» Пушкин тоже перебирает варианты, гораздо более актуальные для него в этот момент, – варианты брака. Всё это повести-невесты: венчания, женитьбы, семейное счастье… Похоже, что Пушкин успевает дописать ВСЁ. 19 октября, рифмуясь всё с тем же 14 декабря, он заканчивает «Евгения Онегина», ритуально сжигая десятую главу. Не здесь ли, роясь в старых бумагах, набредает он на список «Маленьких трагедий», не здесь ли обдумывает он и ответ на критику «Графа Нулина» и пишет свою заметку о его написании, явно для потомков? Для столь краткой заметки при столь разбежавшейся руке – чрезмерная правка… 13 и 14 декабря вписываются и зачеркиваются; «Сближения быв(ают) – Сближения случаются – Быть могут странные сближения». Варианты счастий, перебранные в «Повестях Белкина», все с героями, далекими от искусства, никак не поэтами. Перспектива женитьбы как поворот судьбы волнует Пушкина – естественен возврат к заброшенным замыслам, осмыслявшим варианты судьбы поэтической. Напрашивается сопоставить повести и трагедии как варианты тех и других судеб (семьи и поэзии). Главное, что Пушкин возвращается к основной линии раздумий рубежа 25-го и 26-го годов и воплощает ее.
«Пиром во время чумы» заканчивается эта осень. Опубликованием «Бориса Годунова» – весь год.
3
В 33-м году пушкинский «цикл» заходит на третий круг. Тот же гнет неосуществленных замыслов, то же желание вырваться. Но даже для фантазий выхода нет: Пушкин женат, у него дети… ни заграницы, ни Сибири. Он едет в Оренбург (всё какое-то подсознательное приближение к Сибири, к друзьям…).
Интересно, что, несмотря на столь важную роль зайца в его жизни, Пушкин не испытывает приязни к этому «зверку» (наверно, еще потому, что никакой заяц уже не способен переменить его участь…). Вот он описывает жене из Симбирска: «…выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери, дорого бы дал я, чтоб его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей – гляжу, нет ямщиков – один слеп, другой пьян и спрятался». (Как и в 25-м…) Дальше следует описание перипетий с возвращением назад в Симбирск. И опять: «Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал». Символично, но заяц как бы не пропускает Пушкина в Азию. Вспомнил ли Пушкин того зайца?
Наташа! там у огорода
Мы затравили русака.
Но впереди еще одно Болдино. Там «Медный всадник», «Пиковая дама»… Жить опять можно.
Жизнь без вариантов. Жена, дети, мундир… Потребность единственного возможного побега – творческого – становится хронической, ежегодной.
В 36-м побег этот особенно жестоко сорвется, безвыходность особенно обозначится. То, что раньше вело к замыслам побега, приведет к дуэли. «Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить» (А.С. Хомяков – Н.М. Языкову). Мысль Пушкина в 36-м все чаще обращается на восток, в сторону Сибири, он будто отворачивается от Запада. Взгляд его упирается в края империи – Камчатка и даже Америка. Даже в его «Памятник» забредает неведомый Пушкину тунгус – из письма Кюхельбекера, не иначе.
А что? Не дай Наталья Павловна пощечину графу Нулину, может, история бы тоже поменяла ход?… Не перебеги заяц дорогу… поспел бы Пушкин к Рылееву 13 декабря? И был бы Пушкин, автор «Ермака» и «Кочума», с бородой лопатой, как у Трубецкого или Волконского, в дружеском бородатом кругу, пахал бы да учил… сибирский долгожитель, реабилитированный в 56-м вместе с Пущиным…
Голос врага (Булгарин): «Корчил Байрона, а пропал, как заяц».
Голос Друга (Матюшкин): «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?»
IV. Фотография Пушкина 1799–2099
Вот сегодня наконец оказалось, что войны еще никакой нет.
А позавчера она разразилась, и еще вчера она, возможно, была.
А сегодня опять «еще не вечер».
А позавчера, «между собакой и волком» (надо же! одним присваивают героя, а другим – «часть речи»…), позавчера в сумерки спустился я с чердака включить на нем свет (он у меня включается внизу), все уже спали, прокрался, включил и вышел на крыльцо, присел покурить. Там я сидел, на крыльце, будто поглядывая на себя сверху, всё еще с чердака, что-то там на чердаке недодуманное додумывая, поглядывал перед собой на эту утрату четкости, будто всё, что рисовала нам жизнь за день, из облаков, теней, трав и заборов, всё теперь напрочь стерла, размазав своей резинкой: не получилось. Но, так смазав белый лист дня, что-то от спешки пропустила: то куст выступит неправдоподобно, будто шагнет навстречу, прорисованный с тщательностью до прутика, как вовсе не был он прорисован и при солнце, то цветы вечерние засветятся отдельно, будто поплывут сквозь сумерки… Так я буду сидеть, предаваясь, ленясь снова взойти на свой, теперь уже освещенный верх, впрячься в лямку своего чердака, поволочь его сквозь непроходимый текст. Тут невидимая уже калитка распахнется, обозначив свое отсутствие скрипом, и ввалится вполне видимый мужик, клонясь, как забор, на сторону, расшатывая нетвердой походкой сумерки. «Что-то я тебя раньше не видел», – скажет, усаживаясь рядом, попросит стакан.