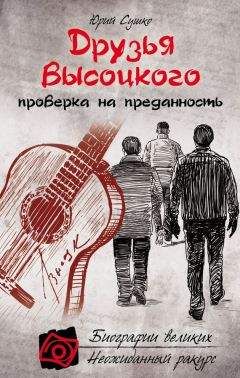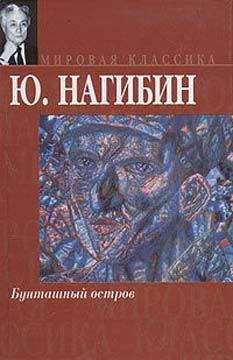Юрий Нагибин - О Галиче — что помнится
Он плавал еще минут десять, не отзываясь на наши подло-благоразумные призывы: «Выходи!.. Довольно форсить!.. Что за ребячество!.. Ты простудишься!.. Ладно тебе, геройствовать, нашел чем удивить!..» Нам стало стыдно, но никакой стыд не мог загнать нас в ошпаривающе-ледяную воду.
— Он что — морж? — спросил кто-то Аню.
— Какой там морж! Он в ванну, если меньше сорока, не полезет.
Да, не полезет. Но здесь был брошен вызов, и он единственный, кто его принял. Главное даже не в том, что он заставил себя выкупаться, а в том, как он это сделал. Спокойно улыбаясь, не дрогнув ни единой жилочкой, даже без гусиной кожи, что вовсе загадочно, не торопясь, до конца сохраняя такой вид, будто это ему в привычку и в удовольствие.
Выйдя наконец из воды, он не спешил одеться, говоря, что надо сперва обсохнуть. Так же не спеша выпил стопку водки, крякнул: «Эх, хороша!» — и пошел в ивняк, чтобы выжать трусы и одеться.
Должен сказать два слова в защиту вгиковских рекрутов. Не всех их задержал Московский военный округ, остальные попали на фронт. Один благополучно довоевал до конца войны и так полюбился властям, что те решили не расставаться с ним. Ему очень пригодились солдатский ватник и справные кирзовые сапоги в дальнейших долгих странствиях. Другому оторвало руку, за ненадобностью его отпустили. Со временем он стал видным деятелем белорусской кинематографии. Воевали и другие, я не знаю их судеб, знаю лишь, что все они вернулись.
Видел я Сашино мужество и иного рода. Мы проводили лето в Алуште. Я приехал туда по Сашиному зову. Почему он выбрал это самое скучное и непоэтичное место на всем крымском побережье, не помню. Аня и Саша жили в маленькой и дружной московской колонии, облюбовавшей тихий край городка. Хотя это место находилось в стороне от алуштинского променада, сюда каждый вечер наведывались комсомольские патрули и заставляли игравших в волейбол женщин надевать поверх сарафанов баски. Голые плечи считались неприличными.
— Вы не на пляже, — говорил двадцатилетний белобрысый и красноглазый альбинос, капитан комсомольской полиции нравов.
— Но это же спорт! — бессильно возражали мы.
— Спортом занимаются на стадионе, а здесь открытое место. Потрудитесь соблюдать приличия.
— Вот не знали, что русский сарафан неприличен. Это же национальная одежда. Его наши бабушки носили.
— Не умничайте, если не хотите в милицию.
— За что? — спросил Саша. — За ум или за сарафан?
Парень посмотрел на Сашу, и его белые, в красном обводе, глаза налились ядовитой желтью ненависти.
— У вашей жены, гражданин, национальная одежда не сарафан, а котиковая шуба.
— Вы ошибаетесь, — улыбнулся Саша. — Моя жена русская. А у вас есть зачатки мышления. Почему вы не развиваете их? Зачем вы мотаетесь по жаре и мешаете людям жить? Кстати, вы знаете, что женщины под сарафаном голые? Да, да, совсем голые, даже без фигового листа. Снимите с них мысленно сарафан, что вы там видите? Ай-яй-яй, а еще комсомолец!..
С раскаленным злым лицом парень повернулся и пошел прочь.
Любопытно, что это идиотское ханжество и прочие крымские «бетизы», как говаривал Лесков, обязаны своим появлением визиту Сталина в Крым. Ему не понравились кипарисы за их траурность, курортницы — за легкомысленный вид. И пали под топорами и пилами прекрасные старые деревья, а стыдливая комсомольская юность взяла на себя заботу, чтобы ни один лишний сантиметр загорелого женского тела не оскорблял целомудренного взгляда.
Но я не к тому вспомнил Алушту. В дни, когда мы безмятежно резвились под присмотром комсомольских патрулей, в «Правде» появилась разгромная статья о спектакле Театра Сатиры по новой пьесе Галича, написанной в соавторстве. Еще шел с неубывающим успехом «Вас вызывает Таймыр», ожидалось, что и новый спектакль на гребне этого успеха принесет театру битковые сборы и славу. Так поначалу и шло, и вдруг — мощный залп из всех бортовых орудий. Мнение «Правды» было в ту пору непререкаемым, каждое критическое, слово звучало как приговор к высшей мере. И что-то загадочное было в этой статье: стрельба из пушек по воробьям, мрачно-безжалостный, предельно грубый тон, будто речь шла не о легкой, непритязательной комедии — о сотрясении государственных основ, и все это — при совершенной бездоказательности разносного текста. Невинные и довольно беззубые шутки персонажей преподносились как угроза общественному вкусу, традиционная комедийная путаница трактовалась как попытка дезориентировать советских людей перед лицом капиталистической опасности. Из статьи становилось ясно: если порочная пьеса останется в репертуаре, то нечего и думать о построении коммунизма.
Словом, то был сталинский маразм на высшем уровне, когда отбрасываются все моральные запреты, приличие, вежливость, дневной разум и чувство реальности. И на что потрачен весь этот неимоверный боевой арсенал? На уничтожение милой театральной шутки. Лев Толстой меньше напрягался, ниспровергая Шекспира. Но там гигант борол гиганта, здесь же на кусочек пастилы накинулась раздувшаяся в железную свинью мышь.
Мы были подавлены, тем паче что в нарочитой грубости статьи, ее житейской неоправданности проглядывала та мрачная и таинственная воля, которая никак не хотела дать передохнуть несчастному, истомленному войной народу, измышляя для него все новые муки. Статья, несомненно, была инспирирована сверху. Так оно и оказалось. Пришла очередь творческой интеллигенции (с упором на еврейскую ее часть) двинуться на Голгофу. Впрочем, излишней щепетильности не проявляли, на позорище мог быть выставлен и русский (хотя бы Малюгин). Сейчас был брошен пробный камень. Один из наших друзей, деливший с нами алуштинские утехи и дни, Н. Мельников, искренне сочувствовавший Саше, не знал, что окажется Иоанном Предтечей космополитизма. С разгрома его талантливой повести «Редакция» начнется та долгая и зловещая кампания, которая увенчает терновым венцом одних и позорными лаврами других…
Саша появился на пляже ближе к обеду, по обыкновению подтянутый, выбритый, элегантный и улыбающийся. У меня даже мелькнула мысль, что он не видел газеты.
— Ну как ты, старик?
— А что? Тачал с утра… Ах, ты об этом!.. Ничего. Надел чистую рубашечку, погладил брюки — и сюда.
Я смотрел на Сашу. То, что произошло, не было локальной неудачей. Совершенно очевидно, что ему опять перекрыли кислород. Хорошо, если «Таймыр» не снимут. Год с небольшим длилась его удача. Не говоря уже о том, что рухнули надежды на хороший заработок, больше ста театров собирались ставить его пьесу, теперь об этом не может быть и речи. И тоска проработки, когда настырно, тупо, зло, бессмысленно будет склоняться твоя фамилия, чтобы вся литературная шушера могла лишний раз расписаться в своих верноподданнических чувствах, когда мелкое (к тому же липовое) литературное прегрешение вырастет до размеров стихийного бедствия. Словом, скука зеленая, безнадега, и никто не скажет, когда ты опять выползешь на свет Божий, да и выползешь ли? А Саша держался так, будто ничего не случилось. Впрочем, «держался» плохое слово, в нем проглядывает искусственность, тягота усилия, а Саша был естествен, свободен, ничуть не напряжен. Вот так же не дрогнул он в ледяной воде, так же принял глухоту друзей, которым читал свою заветную пьесу, так же вышел недавно с заседания секретариата СП, вновь не принявшего его в Союз писателей. Его нельзя было согнуть. Крепкой человеческой сталью называл таких людей Александр Грин. Явилась Аня с припухшими глазами, но шутила, смеялась и напомнила, что вечером идем в кафе. Мы-то малодушно решили, что поход отменяется по причине траура. В кафе мы засиделись допоздна. Когда все посетители ушли, мы с благословения заведующей сдвинули столики, заказали еще напитков, раскрыли старенькое пианино, и Саша закатил грандиозный концерт. Он спел «Маму» и все другие свои песни, не получившие столь широкого признания, репертуар Вертинского, Лещенко, Морфесси, жестокие романсы. А пили мы пиво пополам с ситро, Саша называл напиток «панаше», и закусывали печеньем, которое называлось «курабье». В конце вечера Саша исполнил романс-экспромт о брошенной девушке. Кончался романс на рыдающей ноте: