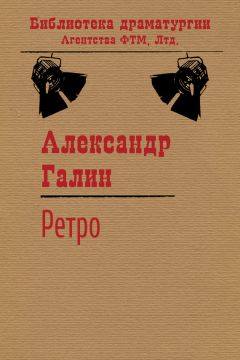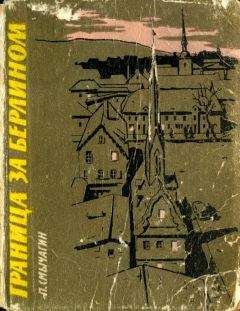Алексей Баталов - Судьба и ремесло
Теперь отсюда, из глубины парка, и съемочная площадка словно преобразилась, выглядит совсем иначе: всадники в ярких военных мундирах, группы придворных, вязь старинной решетки — все это, наполовину скрытое стволами деревьев, легко соединилось с контурами строений, с белизной стремящейся к воде Камероновой галереи с широкими маршами лестниц, с безукоризненной строгостью парадных аллей. Стоя на моем месте, кто-то именно так мог высматривать в пестрой толпе двора сухонькую фигуру Пушкина или кого-то из его друзей, членов тайного общества. Да и я в костюме князя Трубецкого чем-то начинаю принадлежать тому времени, точно погружаюсь в него.
В силу подлинности всего окружающего, как всегда в таких случаях, приходит на ум, что и он, может быть, хаживал по этой вот хрустящей дорожке мимо девы, разбившей кувшин, мимо нависшего над водой дерева…
Поразительно, как много помогает этому обычному ходу туристических мечтаний легкое позванивание княжеских шпор на моих каблуках…
Но стоило только подумать о том, почему я так твердо уверен, что иду именно той заветной дорогой, как время мгновенно перевернулось, а все окружающее, совершенно ни в чем не меняясь, превратилось в живой фон совсем иных лет. Другая, впрочем, теперь уже тоже более принадлежащая истории и этому месту тень возникла в памяти и повела своей дорогой.
Конечно, я никогда не мог бы столь самонадеянно бродить по лицейским следам Пушкина, если бы не шел тут следом за Ахматовой. Странной была эта прогулка, и потому особняком стоит в длинной череде дней, проведенных рядом с Анной Андреевной.
С самого детства, точнее, с шести лет, когда я впервые увидел Ахматову, ее образ накрепко соединился в моем воображении с Ленинградом.
Потом, по мере течения жизни, это первое впечатление множество раз трансформировалось и усложнялось, обретая все новые и новые связи, но никогда не ослабевало и не исчезало. Так что со временем оно не только не потускнело, но, напротив, утвердилось, превратившись в какую-то неразрывную цепь, соединяющую мою грешную жизнь и повседневную работу с легендарными людьми русской культуры, с трагическими днями и героями блокады, с эпохой революций, наконец, с историей Петербурга.
Уже само появление Ахматовой в моей мальчишеской жизни было необычайно значительно и впечатляюще. Может быть, отчасти причиной тому послужило и поведение старших и постоянное упоминание ее имени в разговорах о Ленинграде.
Когда вместе с мамой я переехал в дом, где поселились писатели, вокруг нас появилось столько людей, связанных с событиями литературной жизни, с поэзией и непосредственно с Анной Андреевной, что в моем ребячьем сознании она сразу заняла особое, даже несколько таинственное, вроде инопланетянское место. Конечно, тогда эти люди были для меня просто дяди и тети; и только много лет спустя я начал осознавать их настоящие места и вспоминать лица, совмещая хмурого дядьку, жившего на последнем этаже по нашей лестнице, с Мандельштамом, а доброго и тоже в очках — с Ильфом, веселого сказочника — со Светловым, папу Сережи — с Булгаковым, а хозяина замечательных игрушек — с Мате Залкой. И хотя я знал о Залке только то, что он живет на четвертом этаже и обладает заводным танком, все-таки и он и они все уже были, и какая-то особенная неповторимая атмосфера их жизни наполняла дом.
Наша квартира помещалась в первом этаже, у самой земли, так что летом я отправлялся во двор не иначе, как через окно; комнатки были маленькие, и потому диван, стоявший в главной комнате и занимавший большую ее часть, являлся в то же время и самым парадным местом. Здесь усаживали особо почетных гостей, а в дни детских праздников даже устраивали сцену.
По-хозяйски, один на всем диване я имел право царствовать только в дни болезни, да и то при условии очень высокой температуры. Но каждый раз, когда из Ленинграда приезжала эта непохожая на московских маминых подруг дама, которую все называли по имени и отчеству, она сразу получала диван. Она забиралась с ногами и так возлежала на нем, когда хотела и сколько хотела. Опершись на подушку, она могла и пить кофе, и читать, и принимать гостей.
Она не только приезжала из Ленинграда, но и сама вся, по моим понятиям, была ленинградская. Ее прическа с длинной аккуратной челкой, какие-то особенно просторные длинные платья, позволявшие легко располагаться на диване, огромный платок, медленные движения, тихий голос — все было совершенно ленинградское, и, так как тогда я еще не имел никакого представления о том, что скрывается за этим словом «Ленинград», других, более ярких доказательств существования этого города у меня не было. Я представлял себе Ленинград в виде каких-то улиц и мостов, заполненных множеством таких дам. Помню даже рисунок, имевший большой успех у взрослых, на котором примерно так и был мною изображен Ленинград. Ахматова едет на трамвае под номером «А», рядом она же идет по улице, и она же в платке смотрит в окно. Мужчины были представлены только в костюмных ролях: дворник, милиционер и, кажется, извозчик, — а на мосту опять Ахматова…
И вот что удивительно, теперь, нечаянно вспомнив по ходу писания ту композицию свободного детского рисунка, я могу сказать, что в общем так оно и получалось — с какого угла ни начни я изображать мою ленинградскую жизнь, всюду как-то будет присутствовать Анна Андреевна. Правда, без челки и не такая длинная, какой казалась в детстве, но все-таки непохожая на других, сразу отличимая, с тем же тихим голосом, а главное — вся воплощение духа и строгой красоты этого города.
Еще до войны мама взяла меня с собой на гастроли в Ленинград, и тогда впервые я увидел его наяву. Он предстал в своем летнем обличье, сверкающий золотом и стеклами дворцов, настолько праздничный и нарядный, что и вправду казался бесконечным музеем, каким-то памятником славы. Там я впервые увидел и море, и мачты огромных кораблей, и Медного всадника, и фонтаны Петергофа, и почему-то не менее поразившие меня тогда торцовые мостовые. И почти везде рядом была Анна Андреевна.
Специально для младшего поколения была устроена экскурсия и в Царское Село, и Ахматова целый день водила нас по самым таинственным уголкам парка.
Следующий и последний раз я был с ней в этих местах после войны. Никаких особенно выгодных для рассказа событий в тот день не было, и только само согласие Ахматовой отправиться в Царское Село делало нашу поездку совершенно исключительной.
После войны она как бы навсегда рассталась с местами своей молодости. В стихах 1944 года есть такая строка:
«На прошлом я черный поставила крест». Так что ее намерение побывать в Царском Селе десятью годами позже окончания войны было для меня совершенно неожиданно и скорее тревожно, чем празднично. Я и теперь не берусь гадать, что заставило Анну Андреевну после многих лет именно в этот день осени пройти через весь Дворцовый парк, но ни минуты не сомневаюсь, что повод был важным и значительным.