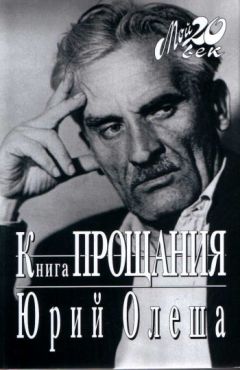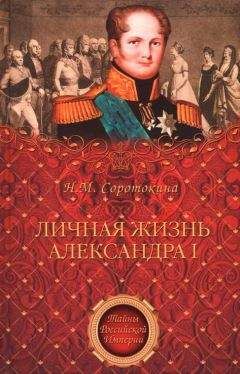Юрий Олеша - Книга прощания
Фотография одноцветна, но я знаю, как зелен склон и дерево и какая синева сияет над убитым гонщиком. Имя этой зелени, и синеве, и дереву — Запад.
Я буду богат и независим. Уверенность эта появилась во мне очень рано, она была самой простой, самой инстинктивной мыслью моего детства, и то, что был я членом бедной семьи, не только не ослабляло этой надежды, но даже, напротив, еще более способствовало ее укреплению.
Мне говорили, что не в знатности и не в богатстве дело, а в одаренности и настойчивости, и ставили мне в пример многих, кто, выйдя из нищеты, достигал высот, до которых редкому богатству и редкой знатности удавалось дотянуться.
Я был совершенно спокоен за свое будущее. Поэтому я никогда не завидовал. Если и существовал круг людей, куда порой трудно было мне проникнуть, — то зато между вещами, замкнутыми этим кругом, и мною существовало содружество, и в нем главенствовал я. Чужая ограда не пугала меня и не угнетала моих чувств. Напротив, поставив на нее локти и глядя в чужой сад, я как бы взвешивал то, чем обладали другие, сравнивая его с тем, чем буду обладать я. Ни статуи чужих садов, ни цветники, ни дорожки, сверкающие суриком гравия, не раздражали моего самолюбия, когда я, маленький гимназист, приходил из города готовить к переэкзаменовкам богатых сверстников.
Мир принадлежит мне. Это была самая простая, самая инстинктивная мысль моего детства. Я так свыкся с ней, что даже не нуждался в заносчивости. Напротив, я был скрытен и молчалив и лучше всего чувствовал себя в одиночестве, стараясь даже придавать этому одиночеству сходство с отверженностью, чтобы тем более сладости находить в напитке, поившем мои соки. Напиток этот был — предвкушение.
15 марта
Я решил написать книгу о том, как Мейерхольд ставил мою пьесу.
Ненавидя беллетристику, с радостью хватаюсь за возможность заняться такой литературой факта. Ненавижу я беллетристику, вероятней всего, от сознания своего беллетристического бессилия. Я начал с поэзии[23]. Не так, как все, имеющие в начале своей литературной судьбы стихотворные грехи, которых приходится впоследствии стыдиться — но профессионально: я думал впоследствии быть стихотворцем. Однако перешел на прозу. Но остался поэтом в литературном существе: то есть лириком — обрабатывателем и высказыва-телем самого себя. Фабула о чужих мне не дается. Впрочем, оправдание, возможно, и натянутое. Потому что Пушкин, перейдя на прозу, стал изысканным фабулистом. И тут мне хочется, по секрету, сказать кощунственную вещь, которую вымараю, если настоящий документ буду оглашать в печати. А именно, что вся изысканность пушкинской прозы — есть результат подражания Мериме.
Мне стыдно и жутко: я оскорбляю Пушкина. И действительно, мне кажется, что величайшим русским гением был Гоголь. Казаки в «Тарасе Бульбе» стоят сивые, как голуби. И душа убитого казака вылетает, оглядываясь и дивясь, что так рано вылетела из молодого и могучего тела. А думая о прозе Пушкина, я вижу эмалевую фабулу, вижу плоскостную картинку, на которой нерусский, глубоко литературный незнакомец стреляет из пистолета в какой-то портрет.
Однако сам Гоголь говорит, что Пушкин дал ему тему «Мертвых душ». Может быть, потому и подзаголовок у них «поэма». Словом, я терплю крах.
Но это разговор с самим собой и в печати оглашено не будет.
К делу.
Вчера читал окончательный вариант моей пьесы труппе. Читка происходила в темном зале, на сцене. Стол был освещен сбоку прожектором, который озеленил лицо Мейерхольда. Я читал хорошо, в некоторых местах испытывая большое удовольствие от преподнесения слушателям того, что написал сам. И, испытывая удовольствие, прекрасно владел голосом, интонациями и легко устанавливал абсолютную тишину там, где она требовалась. Мейерхольд писал на листках, производя распределение ролей. Комбинировал. Он в очках. Сказочен. Доктор. Тетушка из сказки. Замечателен.
В театре своем — он диктатор. Его уважают предельно, подхватывают восторженно каждое проявление его личности: бытовое, товарищеское, артистическое, — подхватывают на смех, полный любви и добродушия, или на тишину, которая разразится, когда он уйдет, горячим обсуждением внутри каждого и между всеми, — и затем вылетит из театра в виде идеи, правила, канона.
Театральный мир поклоняется Мейерхольду и ненавидит его. Он истинный гений, артист, дитя, скандалист. Есть люди, стоящие посреди семьи, посреди дома — на них скрещиваются симпатии, огорчения, борьба склонностей и характеров остальных членов семьи, — они стоят посреди дома, и дом без них перестает жить. Если искусство наше — дом, то Мейерхольд стоит посреди этого дома.
Он скандалист. Он снимает пиджак на эстраде. На нем свитер — полосатый: из двух цветов — голубой и коричневый. Он сед. Волосы стоят дыбом. Просвечивает кожа между ними розовая, как парик. Он в очках. Он запрокидывает лицо. Длинный нос его поднимается. Очки стоят поперек носа. Он волшебник, доктор магии.
О себе он говорит: «Я произошел от лошади». И иногда я воображаю сон… путь мой где-то по мокрой земле, весной, по рытвинам, где-нибудь по Петровскому шоссе… или в другом месте… и я бегу вприпрыжку… куда, не знаю. Это ведь сон, воображение, может быть, кусочек из будущей прозы… Я бегу и натыкаюсь в рытвине на череп лошади, — и поднимаю его… Легкая кость. Она выветрилась, она сквозит глазницами. И в блеске заходящего солнца загорается в глазнице паутинка — и она горит радугой… Маленькая короткая радуга стоит на круге глаза… И я думаю: это голова Мейерхольда. Это оформится, это прозвучит в каком-то месте повести о себе, в которой я вспомню, что впервые я увидел Мейерхольда[24] на экране в фильме «Портрет Дориана Грея» — в кинотеатре «Урания» в Одессе, куда привели нас, гимназистов шестого класса, смотреть эту фильму, потому что учитель русского языка затеял рефераты — и выбрал тему об Уайльде… Предполагал ли я тогда, что Мейерхольд будет ставить мою пьесу.
После чтения пьесы Мейерхольд огласил распределение ролей. Выслушали в тишине. Он тактичен. Чтобы не обидеть никого, он предложил делать заявки на исполнение той или иной роли в дальнейшем. Тишина. Слепит прожектор. Поворачивая взгляд в его сторону, я вижу лампу, которая кажется мне расплавившейся, — не одну, а сразу несколько выплывающих друг из друга ламп видят мои не привыкшие к этому свету глаза. И не только один белый свет воспринимает зрение: целый спектр мигает, не утекая, перед глазами: сиреневое, зеленое облако — и вдруг яркий кармин.
Как они могут сниматься при свете юпитеров, когда приходится не то что думать о спасении своих глаз, а еще и ми-мировать!