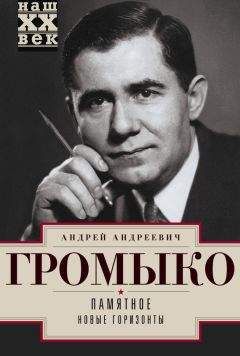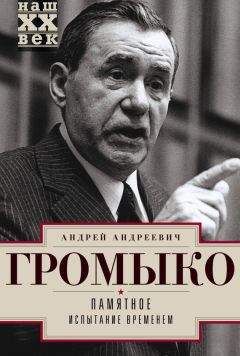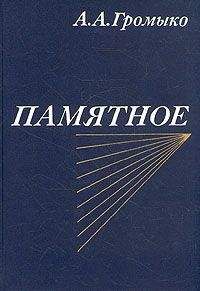Остап Лысенко - Микола Лысенко
— Господа, товарищи, друзья украинцы и поляки, все мы по ярму. — братья родные. У всех работящих рук — русских, украинских, польских — один враг. Как же нам, товарищи, не соединиться вместе, не встать за политическую, юридическую и нравственную свободу народа!
Наше кредо — свобода развития всех национальностей, без насилий и притеснений других, — демократизм, развитие гуманитарных начал, автономии и свободы. — Так давайте же, как завещал нам всем Тарас, «думать, сеять, не ждать». Обнимем, братья мои, меньшего обездоленного брата, Пойдем в народ, изучим его, научим его, сольемся с ним для борьбы с темными силами!
Рукоплескания. Крики:
— Добже, шельма, муви!
— Диви, яке мале, а орел, ей-богу, орел!
Так и не уснули после сходки побратимы. Рассвет встретили на Владимирской горке, на крутом склоне Днепровом.
Н. В. Лысенко, студент Киевского университета (1861 г.).
Н. В. Лысенко, студент Лейпцигской консерватории (1868 г.).
Леся Украинка (Лариса Косач). Начало 90-х годов.
Рабочий кабинет композитора в доме по Мариинско-Благовещенской улице (теперь ул. Саксаганского), № 95, где он жил (1894–1912 гг.) и умер.
— И дали мы в ту ночь, — вспоминал Михаил Петрович, — клятву друг другу: жить для народа многострадального, собирать его песни, изучать его слово, помочь ему, светить ему и знанием своим и любовью. Не раз поднимало нас и вниз бросало в житейском море, но клятву сдержали. Несмотря ни на что, сдержали!..
А началось все в Жовнине. И вовсе не так, как представлялось. Наши кузены приехали на каникулы из Киева с ног до головы в национальном — темно-коричневых чумарках, в серых шароварах, полные благих намерений и любви к «меньшему брату». В первый же вечер отправились «на улицу».
Украинская речь и простые, «непанские» костюмы панычей, их настойчивое желание «сойтись» с народом кое-кого даже насторожило. Одни считали, что царь за то, что издевались раньше паны над людьми, «переписав при волі й їих у простоту». Другие прямо говорили, что «паны» переоделись в простое и ходят, чтобы подслушать, записать и донести царю на мужика.
— Не знаю, как бы и обошлось. Добро, Созонт выручил, и не так Созонт, как приятель его, жовнинский парубок Данило Стовбыр-Лимаренко. Данило «на улице» ходил в заводилах. Поговорил с кем надо. «Товариство» потребовало от нас, как водится, ведро горилки и разрешило бывать на своих сборищах.
Микола вскоре стал своим и на «досвитках» и на «вечорницях». То было «для себя» записывал, теперь с иными думами заполнял заветную тетрадь. Собрать, издать бы эти песни! Ведь в них — душа народа, и горе его горькое, и надежда.
…Вечер. Над селом застыли зеленые звезды. Молчит «улица». И вдруг ночь разрывается песней. Еще и парубков не видно, а уже доносится издалека:
Ой, наступала та чорна хмара,
Став дощ накрапать.
Крепнут, наливаются мощью басы:
Ой, там збиралась бідна голота
До корчми гулять.
Поют с задором, с вызовом:
Пили горілку, пили й наливку,
Ще й мед будем пить,
А хто з нас, братця, буде сміяться,
Того будем бить.
Где родилась эта песня? В корчме, где топит свое лихо незрячий брат гречкосей, а может, в обожженной солнцем степи у чумацкого костра?
И никакой горилкой — медом-наливкой не залить горькую обиду на богачей-дукачей:
Ой, іде багач, ой, іде дукач —
Посміхається:
Ой, за що, за що вража голота
Напивається?
Ой, беруть дуку за чуб, за руку,
Третій в шию б’є:
Ой, не йди туди, превражий сину,
Де голота п’є!
И была еще одна ночь в Жовнине. Так же таинственно зеленели звезды над старым селом. Уже опустела «улица», умолкли песни. Только Сула своим серебристым голосом что-то напевала Миколе.
Щемящая грусть, ожидание чего-то, тихая, ничем не объяснимая радость — все это подступало к сердцу, билось в груди.
Ой, не світи, місяченьку,
Не світи нікому.
Песня! Откуда? Не в нем ли самом она звучим? Ну, конечно, давняя знакомая. Еще в Гриньках попала в заветную тетрадь. Те же слова и та же мелодия. Но голос! Откуда в нем столько юности, свежести, трепетного тепла? И просит и заклинает:
…Не світи нікому.
Тільки світи миленькому,
Як іде до дому.
Кто эта девушка? Так увлеклась пением, прислонившись к тополю, что ничего не видит вокруг себя. Не дочь ли Сулы, не родная ли сестра шевченковой Лилеи, русалка, загубленная злым паном?
Луна вырывается из облаков, щедро заливает бледное лицо, длинные пышные косы девушки.
Настя-Настуся?! Давно ли бегала босоножкой по леваде, давно ли гусей пасла для стола панского? Дочь старой Бурички, бывшей маменькиной служанки.
Какое лицо! Чистое, святое, как лилия. И глаза что звезды, промытые весенним дождем. С нее писать бы мадонну. С таким голосом хоть сегодня в Миланскую оперу.
А знает ли Настя, каким сокровищем обладает? Кому, какому счастливцу поет свою песню:
Світи йому ранесенько,
Та й розганяй хмари.
Подойти бы. Заговорить. Сам бы все хмары разогнал «ад твоей головой, моя Лилея, Настенька-Настуся!
…В ту ночь так и не осмелился ни подойти, ни заговорить. Познакомила «улица».
И вскоре жовнинские ночи слились в одну соловьиную ночь. Что бы ни говорил Микола о своей любви, Настя все переводила на хорошо знакомый ей язык, язык песни.
Никогда раньше не светил так ясен месяц, никогда не было столько звезд на жовнинском небе, но еще больше песен зняла Настуся.
Про злую мачеху, про старого деда, стоявшего с молодой «под вишнею — под черешнею», про казака, которому нужна не любовь, а богатство:
Ой, як би ти, дівчинонька,
Була богатенька,
Взяв би тебе за рученьку,
Повів до батенька.
Гордо отвечает дивчинонька казаку-златолюбцу:
Ой, як би я, козаченьку,
Була богатенька,
Наплювала б я на тебе,
Й на твого батенька.
Микола не сводит глаз с Настуси, любуется, слушает.
Появляется знакомая, уже порядком потрепанная тетрадь. Страница за страницей заполняется какими-то значками. Настуся долго не может понять, как в значках этих живет песня.
«И до чего только не додумаются ученые панычи? — вздыхает про себя. — Хоть, правда, какой уж Микола паныч? И одет по-нашему, и говорит не по-пански, и сердце у него доброе. Обещает сватов прислать, на дядюшку ссылается, Александра Захаровича. Тоже пан, а на своей, говорят, крепачке женился. Дал же им бог счастья».